Содержание
ПЕРЕД ВЕЧЕРАМИ
Декабрь 1920 г.
Когда в комитете Дома литераторов в декабре 1920 г. <…> академик Н. А. Котляревский <председатель> обратился к Блоку с вопросом, согласен ли он произнести речь на предстоящем заседании, Блок, не поднимая головы, стал думать. «После Достоевского… - медленно и тихо произнёс Блок, - я не могу сейчас решить… Я дам ответ через несколько дней.
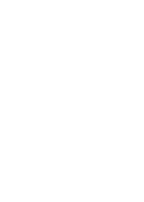
Борис Харитон
Газета «Сегодня» №173 (Рига, 7 августа, 1926 г.)
Январь 1921 г.
В том же 21-м, в январе, я видел Блока на маскараде в "Школе ритма", балетной школе на Миллионной улице. В то голодное время был не только расцвет научной и поэтической работы, была еще и масса развлечений. По дороге на маскарад я зашел за Всеволодом Рождественским в Дом Искусств, мы уговорились идти вместе. (Я тогда дружил с Рождественским, была такая полоса в моей жизни, недолгая.) Зашел в комнату Рождественского, там — Блок, уже в пальто. Потом мы шли наперерез, через заснеженную Дворцовую площадь, наискось, от первого дома Невского к Миллионной мимо Александровской колонны: Блок, Мандельштам, Надя Павлович, Всеволод Рождественский... Блок, очень сумрачный, не сказал ни слова на всем пути.
В сутолоке первого часа маскарада я потерял его из виду. Но весь вечер запомнился мне одной минутой. В перерыве между танцами теснились, болтали, смеялись. И вдруг стало тихо: Блок, в темном домино, какой-то неживой походкой вошел в зал. Он был уже без маски — как маска, было его застывшее каменное лицо. Толпа в зале раздалась на две стороны, а он прошел сквозь нее, как по коридору, медленно, ни на кого не глядя, не замечая ни этого коридора, ни внезапной тишины.
В сутолоке первого часа маскарада я потерял его из виду. Но весь вечер запомнился мне одной минутой. В перерыве между танцами теснились, болтали, смеялись. И вдруг стало тихо: Блок, в темном домино, какой-то неживой походкой вошел в зал. Он был уже без маски — как маска, было его застывшее каменное лицо. Толпа в зале раздалась на две стороны, а он прошел сквозь нее, как по коридору, медленно, ни на кого не глядя, не замечая ни этого коридора, ни внезапной тишины.

Александр Ивич (А.А. Бернштейн)
Журнал «Континент» №142 (№4, октябрь-декабрь 2009 г.) стр. 301
В недели работы над Пушкиным в 1921 г. я застала Блока за чтением статьи Владимира Соловьева «Судьба Пушкина». Я взяла книгу со стола. Многие места были отмечены, подчеркнуты синим карандашом. Но особенно резко, чертами, закрывающими промежутки между строчками, были подчеркнуты слова: «Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна».
— Почему Вы так подчеркнули это? — спросила я.
«Потому что это неправда», — каким-то одновременно глубоким и звенящим голосом ответил Блок. «Пушкина убила не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха» — так перефразирует Блок слова Соловьева в статье о «Назначении поэта». И если в статье «О назначении поэта» он кое в чем (например, в определении «черни») с Соловьевым сошелся, то в самом существенном, в нравственной оценке дела Пушкина и в страшной картине преследования поэта, травли (которую Соловьев отрицал) Блок резко опровергает того, кого звал когда-то своим строгим учителем. Блок восстал за человека, за тайную свободу, за права художника.
— Почему Вы так подчеркнули это? — спросила я.
«Потому что это неправда», — каким-то одновременно глубоким и звенящим голосом ответил Блок. «Пушкина убила не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха» — так перефразирует Блок слова Соловьева в статье о «Назначении поэта». И если в статье «О назначении поэта» он кое в чем (например, в определении «черни») с Соловьевым сошелся, то в самом существенном, в нравственной оценке дела Пушкина и в страшной картине преследования поэта, травли (которую Соловьев отрицал) Блок резко опровергает того, кого звал когда-то своим строгим учителем. Блок восстал за человека, за тайную свободу, за права художника.
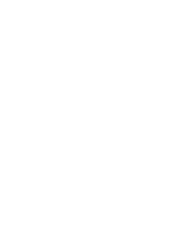
Евгения Книпович
«Литературное наследство – Том 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 1» (изд. «Наука» 1980 г.) стр. 32
5 февраля 1921 г.
Позвонила библиотекарша Пушкинского Дома. Завезла альбом Пушкинского Дома.
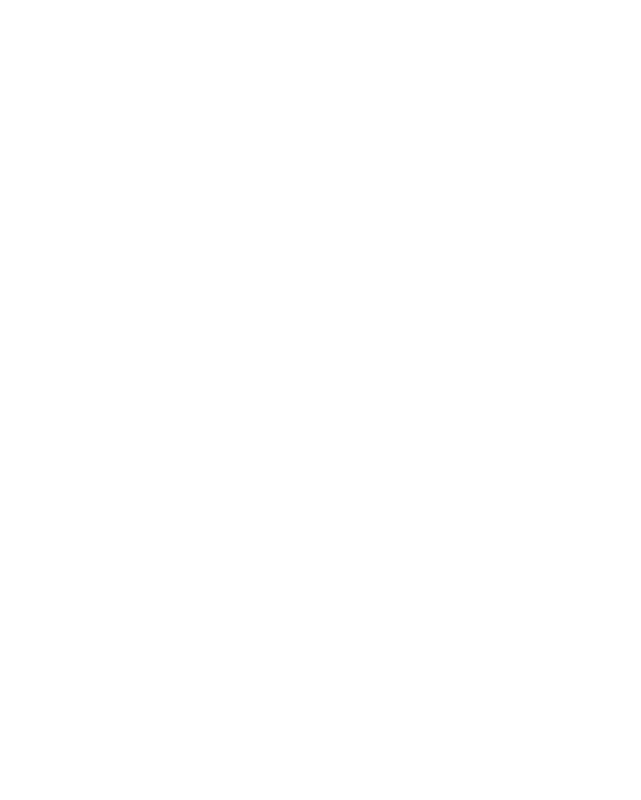
Александр Блок
Из дневника Александра Блока – 5 февраля 1921 г
Звонила к Блоку, прося его написать что-нибудь в альбом, кот<орый> я предназначаю Пушк<инскому> Дому; один я уже завела, и в нем уже есть записи некоторых московских литераторов и ученых, и наших здешних. Но для поэтов и художников я отыскала другой, тоже старинный, но лучше первого. Блок обещал, и думаю, что не для того только, чтобы отделаться.
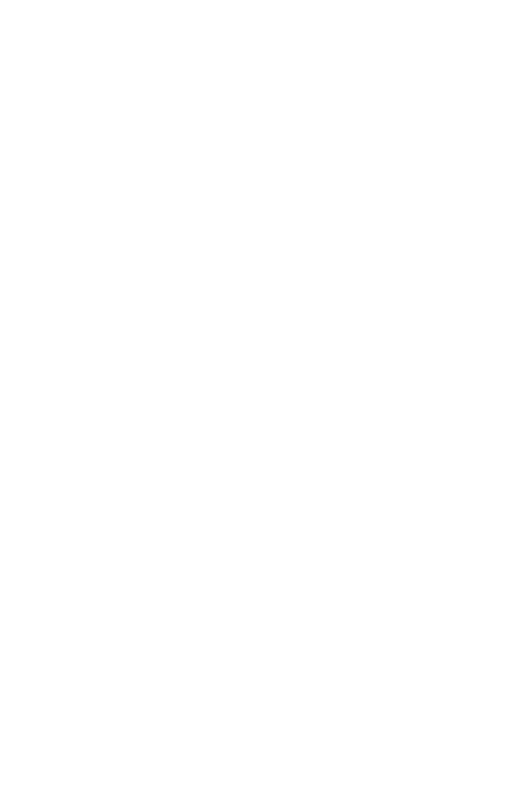
Евлалия Казанович
Из дневника Е.П. Казанович – 5 февраля 1921 г
7 февраля 1921 г.
Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись; огромными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие дни нашей жизни.
Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, мучеников, императоров – и рядом это имя: Пушкин.
Как бы мы ни оценивали Пушкина – человека, Пушкина – общественного деятеля, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов, Пушкина – мученика страстей, все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт. Едва ли найдется человек, который не захочет прежде всего связать с именем Пушкина звание поэта.
Что такое поэт? – Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это – это носитель ритма.
В бесконечной глубине человеческого духа, в глубине, недоступной для слишком человеческого, куда не достигают ни мораль, ни право, ни общество, ни государство, – катятся звуковые волны, родные волнам, объемлющим вселенную, происходят ритмические колебания, подобные колебаниям небесных светил, глетчеров, морей, вулканов. Глубина эта обыкновенно закрыта «заботами суетного света».
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он <малодушно> погружен.
Когда глубина эта открывается,
Бежит он, дикий и суровый,
И страхов и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы,
потому что там ему необходимо причаститься родной стихии для того, чтобы напоминать о ней миру звуком, словом, движением – тем, чем владеет поэт.
Вслед за этим происходит второе действие драмы знаменитое столкновение поэта с чернью, т. е. с существами человеческой породы, в которых духовная глубина совершенно заслонена «заботами суетного света»; это – не звери, не птицы, не осколки планет, не демоны, не ангелы, а только – люди.
Они требуют от поэта пользы, они требуют, чтобы он «сметал сор» с их «улиц шумных», потому что не могут, не умеют и, между прочим, никогда не сумеют воспользоваться большим – тем, что предлагает им поэт.
Третье, и последнее действие, драмы заключается в борьбе поэта с чернью, в неизбежном приспособлении поэта, как несовершенного организма, пригодного только к внутренней мировой жизни, к черни, как организму, пригодному только к жизни внешней. Оно заканчивается всегда гибелью поэта, как инструмента, который ржавеет и теряет звучность в условиях окружающей внешней жизни. Эта жизнь права: ей ничего, кроме пользы, и не нужно, большее – для нее враг, ибо оно стремится уничтожить ее, чтобы создать на ее месте новую жизнь. Инструмент гибнет, звуки, им рожденные, остаются и продолжают содействовать той самой цели, для которой искусство и создано: испытывать сердца, производить отбор в грудах человеческого шлака, добывать нечеловеческое – звездное, демоническое, ангельское, даже и только звериное – из быстро идущей на убыль породы, которая носит название «человеческого рода», явно несовершенна и должна быть заменена более совершенной породой существ. Все добытое и отобранное таким образом искусством, очевидно, где-то хранится и должно служить к образованию новых существ.
В таких поневоле шатких и метафорических выражениях я хотел дать понятие о происхождении, сущности и цели ритма, носителем которого является в мире поэт.
Описанные фазисы приобщения поэта к стихийному ритму, борьба за ритм с чернью и гибель поэта – я назвал не трагедией, а только драмой; действительно, в этом процессе и нет ровно ничего «очищающего», никакого катарсиса; происходит борьба существ, равно несовершенных, вследствие чего победа не остается ни за кем: ни за погибшим, ни за погубившим. Тот, кто бывает «всех ничтожней меж детей ничтожных мира», не есть какое-то необычайное существо, чьей гибели сопутствуют небесные знамения; также и тот, кто погубил, не есть представитель какой-нибудь особенной силы; это – чернь как чернь.
Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, мучеников, императоров – и рядом это имя: Пушкин.
Как бы мы ни оценивали Пушкина – человека, Пушкина – общественного деятеля, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов, Пушкина – мученика страстей, все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт. Едва ли найдется человек, который не захочет прежде всего связать с именем Пушкина звание поэта.
Что такое поэт? – Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это – это носитель ритма.
В бесконечной глубине человеческого духа, в глубине, недоступной для слишком человеческого, куда не достигают ни мораль, ни право, ни общество, ни государство, – катятся звуковые волны, родные волнам, объемлющим вселенную, происходят ритмические колебания, подобные колебаниям небесных светил, глетчеров, морей, вулканов. Глубина эта обыкновенно закрыта «заботами суетного света».
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он <малодушно> погружен.
Когда глубина эта открывается,
Бежит он, дикий и суровый,
И страхов и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы,
потому что там ему необходимо причаститься родной стихии для того, чтобы напоминать о ней миру звуком, словом, движением – тем, чем владеет поэт.
Вслед за этим происходит второе действие драмы знаменитое столкновение поэта с чернью, т. е. с существами человеческой породы, в которых духовная глубина совершенно заслонена «заботами суетного света»; это – не звери, не птицы, не осколки планет, не демоны, не ангелы, а только – люди.
Они требуют от поэта пользы, они требуют, чтобы он «сметал сор» с их «улиц шумных», потому что не могут, не умеют и, между прочим, никогда не сумеют воспользоваться большим – тем, что предлагает им поэт.
Третье, и последнее действие, драмы заключается в борьбе поэта с чернью, в неизбежном приспособлении поэта, как несовершенного организма, пригодного только к внутренней мировой жизни, к черни, как организму, пригодному только к жизни внешней. Оно заканчивается всегда гибелью поэта, как инструмента, который ржавеет и теряет звучность в условиях окружающей внешней жизни. Эта жизнь права: ей ничего, кроме пользы, и не нужно, большее – для нее враг, ибо оно стремится уничтожить ее, чтобы создать на ее месте новую жизнь. Инструмент гибнет, звуки, им рожденные, остаются и продолжают содействовать той самой цели, для которой искусство и создано: испытывать сердца, производить отбор в грудах человеческого шлака, добывать нечеловеческое – звездное, демоническое, ангельское, даже и только звериное – из быстро идущей на убыль породы, которая носит название «человеческого рода», явно несовершенна и должна быть заменена более совершенной породой существ. Все добытое и отобранное таким образом искусством, очевидно, где-то хранится и должно служить к образованию новых существ.
В таких поневоле шатких и метафорических выражениях я хотел дать понятие о происхождении, сущности и цели ритма, носителем которого является в мире поэт.
Описанные фазисы приобщения поэта к стихийному ритму, борьба за ритм с чернью и гибель поэта – я назвал не трагедией, а только драмой; действительно, в этом процессе и нет ровно ничего «очищающего», никакого катарсиса; происходит борьба существ, равно несовершенных, вследствие чего победа не остается ни за кем: ни за погибшим, ни за погубившим. Тот, кто бывает «всех ничтожней меж детей ничтожных мира», не есть какое-то необычайное существо, чьей гибели сопутствуют небесные знамения; также и тот, кто погубил, не есть представитель какой-нибудь особенной силы; это – чернь как чернь.
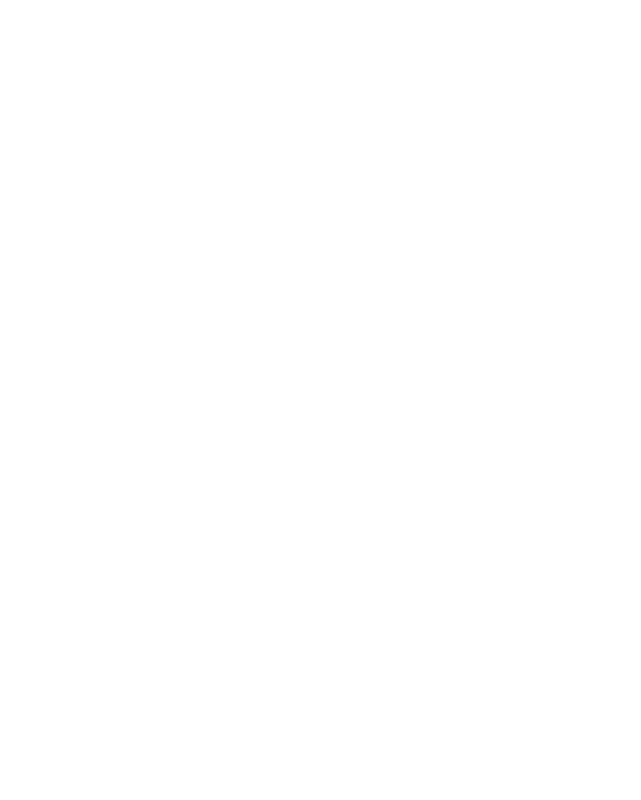
Александр Блок
Из дневника Александра Блока – 7 февраля 1921 г
8 февраля 1921 г.
Дома ставил сам самовар. Юр. [Юрий Юркун] притащил огромную булку и конфет. Написал стихи Пушкину. Холодно спать.
Пушкин
Он жив! у всех душа нетленна,
Но он особенно живет!
Благоговейно и блаженно
Вкушаем вечной жизни мед.
Пленительны и полнозвучны,
Текут родимые слова...
Как наши выдумки докучны,
И новизна как не нова!
Но в совершенства хладный камень
Его черты нельзя замкнуть:
Бежит, горя, летучий пламень,
Взволнованно вздымая грудь.
Он - жрец, и он веселый малый,
Пророк и страстный человек,
Но в смене чувства небывалой
К одной черте направлен бег.
Москва и лик Петра победный,
Деревня, Моцарт и Жуан,
И мрачный Герман, Всадник Медный
И наше солнце, наш туман!
Романтик, классик, старый, новый?
Он - Пушкин, и бессмертен он!
К чему же школьные оковы
Тому, кто сам себе закон?
Из стран, откуда нет возврата,
Через года он бросил мост,
И если в нем признаем брата,
Он не обидится: он - прост
И он живой. Живая шутка
Живит арапские уста,
И смех, и звон, и прибаутка
Влекут в бывалые места.
Так полон голос милой жизни,
Такою прелестью живим,
Что слышим мы в печальной тризне
Дыханье светлых именин.
Пушкин
Он жив! у всех душа нетленна,
Но он особенно живет!
Благоговейно и блаженно
Вкушаем вечной жизни мед.
Пленительны и полнозвучны,
Текут родимые слова...
Как наши выдумки докучны,
И новизна как не нова!
Но в совершенства хладный камень
Его черты нельзя замкнуть:
Бежит, горя, летучий пламень,
Взволнованно вздымая грудь.
Он - жрец, и он веселый малый,
Пророк и страстный человек,
Но в смене чувства небывалой
К одной черте направлен бег.
Москва и лик Петра победный,
Деревня, Моцарт и Жуан,
И мрачный Герман, Всадник Медный
И наше солнце, наш туман!
Романтик, классик, старый, новый?
Он - Пушкин, и бессмертен он!
К чему же школьные оковы
Тому, кто сам себе закон?
Из стран, откуда нет возврата,
Через года он бросил мост,
И если в нем признаем брата,
Он не обидится: он - прост
И он живой. Живая шутка
Живит арапские уста,
И смех, и звон, и прибаутка
Влекут в бывалые места.
Так полон голос милой жизни,
Такою прелестью живим,
Что слышим мы в печальной тризне
Дыханье светлых именин.

Михаил Кузмин
Из дневника М.А. Кузмина – 8 февраля 1921 г
11 ФЕВРАЛЯ 1921 Г.
Панихида по Пушкину в Исаакиевском соборе (1½ ч. дня)
В пятницу на службу ко мне явился Миш [Михаил Лозинский]:
- Я по экстренному делу. В половине второго у Исаакия панихида по Пушкину, и я пришел за Вами.
Раз-два. И я прямо из хаоса петроснабских дел попадаю в высокую тишину Исаакиевского собора. Идея панихиды принадлежит Мандельштаму. Он бродит под колоннами, выпятив колесом узенькую грудь, уморительно-торжественный. Тут же невыспавшийся, измученный Ходасевич с женой. Невероятно грязная, как всегда, Павлович. Еще кто-то незнакомый.
Служит древний, древний батюшка, и диким басом поет псаломщик. Хорошо, что я тут. Ведь я не только именем Божиим крещена, но и именем Пушкина.
- Я по экстренному делу. В половине второго у Исаакия панихида по Пушкину, и я пришел за Вами.
Раз-два. И я прямо из хаоса петроснабских дел попадаю в высокую тишину Исаакиевского собора. Идея панихиды принадлежит Мандельштаму. Он бродит под колоннами, выпятив колесом узенькую грудь, уморительно-торжественный. Тут же невыспавшийся, измученный Ходасевич с женой. Невероятно грязная, как всегда, Павлович. Еще кто-то незнакомый.
Служит древний, древний батюшка, и диким басом поет псаломщик. Хорошо, что я тут. Ведь я не только именем Божиим крещена, но и именем Пушкина.
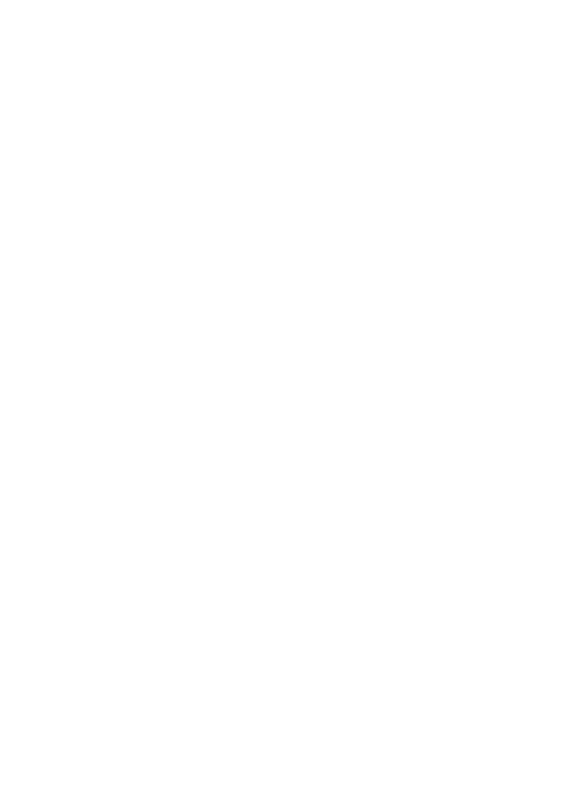
Ада (Олимпиада) Оношкович-Яцына
Из дневника А.И. Оношкович-Яцы́ной – 14 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №13» (изд. «Феникс» – 1993 г.) стр. 401 – 402
Чудную сцену я помню: как раз февральская годовщина смерти Пушкина. Исаакиевский собор тогда функционировал, там церковь была. И Мандельштам придумал, что мы пойдём сейчас служить панихиду, целая группа из Дома Искусств. И он раздавал нам свечи. Я никогда не забуду, как он держался – в соответствии с обстоятельством, когда свечки эти раздавал.
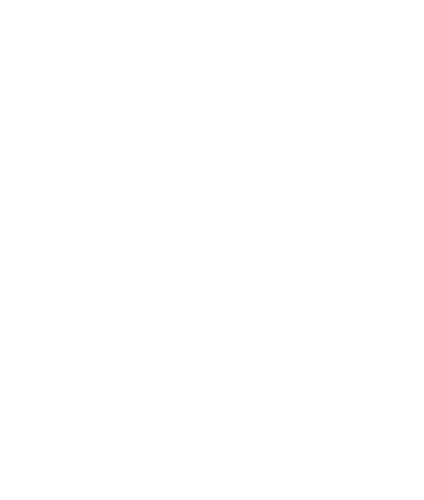
Надежда Павлович
Из воспоминаний Н.А. Павлович «Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников» (изд. «Наталис» 2002 г.) стр. 122 — 123
Приготовления к вечеру
Приглашение на «Торжественное собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина» в Доме литераторов получить было нелегко.
Из-за недостатка места число приглашений было крайне ограничено – в расчете на одну лишь «элиту».
Заведующие Домом литераторов Волковысский, Ирецкий и Харитон вежливо, но твердо отказывали в них рядовым членам, ссылаясь – по Диккенсу – друг на друга. Волковысский говорил:
– Я, конечно, с удовольствием дал бы вам билет. Я понимаю, вам необходимо его дать, но это зависит не от меня, а от Ирецкого. Это он составляет список приглашенных. Я тут ни при чем.
А Ирецкий, со своей стороны, ссылался на злую волю Харитона, хотя Харитон заведовал «хозяйственной частью» Дома:
– Ничего поделать не могу. Конечно, я разделяю ваше возмущение. Но Харитон вообразил себя диктатором и сам раздает приглашения, совершенно не слушая меня.
Рядовые члены бегали от Волковысского и Ирецкого к Харитону, упрашивали, убеждали и, ничего не добившись, уходили, затаив чувство обиды и жажду мести.
Месть – что, впрочем, и естественно для Дома литераторов – вылилась в четверостишие:
Даже солнце не без пятен,
Так и Харитон.
Очень часто неприятен
Этот Харитон.
Неизвестно, почему «мстители» избрали своей мишенью одного Харитона. Но ему, бедному, они действительно испортили много крови. Четверостишие это в продолжение многих месяцев ежедневно появлялось на стенах Дома литераторов. Его не успевали уничтожать, как оно уже красовалось на другой стене. Обиженных было очень много. И, как это ни странно, среди обиженных оказался и Гумилев.
Не потому, конечно, что он не получил билета, а потому что его не сочли нужным попросить выступить с речью о Пушкине.
Об этом он упомянул только один раз и то вскользь, как о чем-то незначительном:
– Могли бы, казалось, попросить меня, как председателя Союза поэтов, высказаться о Пушкине. Меня, а не Блока. Или меня и Блока.
Больше он к этому вопросу не возвращался, но я поняла, что его самолюбие сильно задето.
– Я надену фрак, чтобы достойно отметить пушкинское торжество, – заявил он тут же.
Я удивилась. Фрак на литературный вечер? Гумилев презрительно пожал плечами:
– Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там на литературных конференциях все более или менее во фраках и смокингах.
Я все же старалась отговорить его от нелепого намерения.
– Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время. У многих даже приличного пиджака нет. В театр и то в валенках ходят...
– Что же из этого? А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет. – Он самодовольно взглянул на меня. – Я и вам советую надеть вечернее, декольтированное платье. Ведь у вас их после вашей покойной матушки много осталось.
Но я, несмотря на все послушание Гумилеву, этому его совету, как он ни убеждал меня, не последовала.
Гумилев стал заблаговременно готовиться к торжественному выходу. Фрак и жилет, покоившиеся в сундуке под густым слоем нафталина, были тщательно вычищены и развешаны на плечиках в неотапливаемом кабинете – на предмет уничтожения нафталинного духа.
Гумилев сам разгладил белый галстук, не доверяя его не только грубым рукам Паши, но и мне.
Все шло отлично, пока не выяснилось, что черные носки – единственную пару черных носков, хранящуюся на парадный случай в шляпной картонке между дверьми прихожей, – съели мыши.
Гумилев в полном отчаянии вынул их из прогрызенной мышами картонки, и они рассыпались кружевом в его руках.
– Слопали, проклятые! А я-то о них заботился!
О мышах Гумилев действительно «заботился», то есть не позволил Паше, когда в квартире появились мыши, взять напрокат соседского кота или поставить мышеловку.
– Кому мышь мешает? Даже веселее, не так одиноко себя чувствую. Все-таки живое существо! Пусть себе бегает! – И он нарочно оставлял на полу прихожей крошки хлеба. – Катастрофа! Не смогу надеть фрак. Ведь все мои носки белые, шерстяные. В них невозможно, – повторял он, горестно вздыхая.
Мне было смешно, но я старалась выразить сочувствие. Я вспомнила, что у меня дома, по всей вероятности, найдется пара черных носков моего отца.
– Пойдемте ко мне, Николай Степанович, поищем.
– Если не будет черных носков, – неожиданно решил Гумилев, – я вообще не пойду. Без фрака не пойду! Ни за что не пойду.
Но, к великой радости Гумилева, носки у меня нашлись. И ничто не помешало его триумфальному появлению во фраке 13 февраля [на самом деле 11] 1921 года на «Торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина».
Из-за недостатка места число приглашений было крайне ограничено – в расчете на одну лишь «элиту».
Заведующие Домом литераторов Волковысский, Ирецкий и Харитон вежливо, но твердо отказывали в них рядовым членам, ссылаясь – по Диккенсу – друг на друга. Волковысский говорил:
– Я, конечно, с удовольствием дал бы вам билет. Я понимаю, вам необходимо его дать, но это зависит не от меня, а от Ирецкого. Это он составляет список приглашенных. Я тут ни при чем.
А Ирецкий, со своей стороны, ссылался на злую волю Харитона, хотя Харитон заведовал «хозяйственной частью» Дома:
– Ничего поделать не могу. Конечно, я разделяю ваше возмущение. Но Харитон вообразил себя диктатором и сам раздает приглашения, совершенно не слушая меня.
Рядовые члены бегали от Волковысского и Ирецкого к Харитону, упрашивали, убеждали и, ничего не добившись, уходили, затаив чувство обиды и жажду мести.
Месть – что, впрочем, и естественно для Дома литераторов – вылилась в четверостишие:
Даже солнце не без пятен,
Так и Харитон.
Очень часто неприятен
Этот Харитон.
Неизвестно, почему «мстители» избрали своей мишенью одного Харитона. Но ему, бедному, они действительно испортили много крови. Четверостишие это в продолжение многих месяцев ежедневно появлялось на стенах Дома литераторов. Его не успевали уничтожать, как оно уже красовалось на другой стене. Обиженных было очень много. И, как это ни странно, среди обиженных оказался и Гумилев.
Не потому, конечно, что он не получил билета, а потому что его не сочли нужным попросить выступить с речью о Пушкине.
Об этом он упомянул только один раз и то вскользь, как о чем-то незначительном:
– Могли бы, казалось, попросить меня, как председателя Союза поэтов, высказаться о Пушкине. Меня, а не Блока. Или меня и Блока.
Больше он к этому вопросу не возвращался, но я поняла, что его самолюбие сильно задето.
– Я надену фрак, чтобы достойно отметить пушкинское торжество, – заявил он тут же.
Я удивилась. Фрак на литературный вечер? Гумилев презрительно пожал плечами:
– Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там на литературных конференциях все более или менее во фраках и смокингах.
Я все же старалась отговорить его от нелепого намерения.
– Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время. У многих даже приличного пиджака нет. В театр и то в валенках ходят...
– Что же из этого? А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет. – Он самодовольно взглянул на меня. – Я и вам советую надеть вечернее, декольтированное платье. Ведь у вас их после вашей покойной матушки много осталось.
Но я, несмотря на все послушание Гумилеву, этому его совету, как он ни убеждал меня, не последовала.
Гумилев стал заблаговременно готовиться к торжественному выходу. Фрак и жилет, покоившиеся в сундуке под густым слоем нафталина, были тщательно вычищены и развешаны на плечиках в неотапливаемом кабинете – на предмет уничтожения нафталинного духа.
Гумилев сам разгладил белый галстук, не доверяя его не только грубым рукам Паши, но и мне.
Все шло отлично, пока не выяснилось, что черные носки – единственную пару черных носков, хранящуюся на парадный случай в шляпной картонке между дверьми прихожей, – съели мыши.
Гумилев в полном отчаянии вынул их из прогрызенной мышами картонки, и они рассыпались кружевом в его руках.
– Слопали, проклятые! А я-то о них заботился!
О мышах Гумилев действительно «заботился», то есть не позволил Паше, когда в квартире появились мыши, взять напрокат соседского кота или поставить мышеловку.
– Кому мышь мешает? Даже веселее, не так одиноко себя чувствую. Все-таки живое существо! Пусть себе бегает! – И он нарочно оставлял на полу прихожей крошки хлеба. – Катастрофа! Не смогу надеть фрак. Ведь все мои носки белые, шерстяные. В них невозможно, – повторял он, горестно вздыхая.
Мне было смешно, но я старалась выразить сочувствие. Я вспомнила, что у меня дома, по всей вероятности, найдется пара черных носков моего отца.
– Пойдемте ко мне, Николай Степанович, поищем.
– Если не будет черных носков, – неожиданно решил Гумилев, – я вообще не пойду. Без фрака не пойду! Ни за что не пойду.
Но, к великой радости Гумилева, носки у меня нашлись. И ничто не помешало его триумфальному появлению во фраке 13 февраля [на самом деле 11] 1921 года на «Торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина».
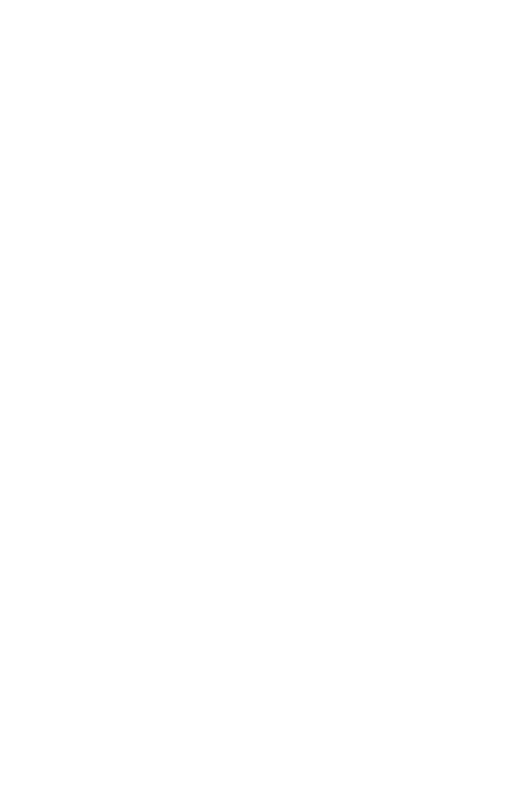
Ирина Одоевцева
«На берегах Невы» (изд. «Художественная литература» – 1989 г.) стр. 203 – 207
Вечером предстоит торжественное чествование памяти Пушкина в Доме Литераторов. Днем я зашла туда за билетом и при выходе нос с носом столкнулась с Maitr'ом [Михаилом Лозинским].
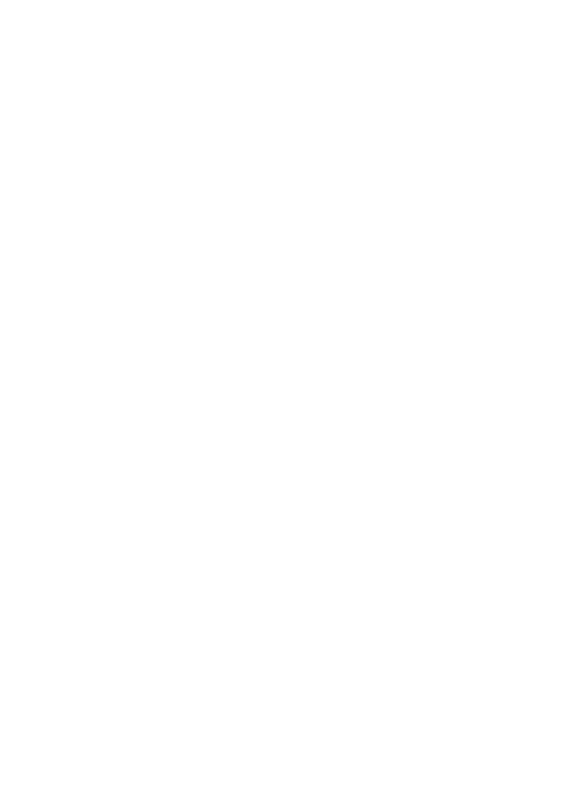
Ада (Олимпиада) Оношкович-Яцына
Из дневника А.И. Оношкович-Яцы́ной – 14 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №13» (изд. «Феникс» – 1993 г.) стр. 401 – 402
Торжественное собрание памяти Пушкина в Доме Литераторов (7½ ч. вечера)
Торжественное собрание представителей литературных и культурно-просветительских учреждений и организаций Петрограда в связи с 84-й годовщиной смерти Пушкина (Дом литераторов); пред. Н.Котляревский; поч. пред. А.Кони.
В президиуме - А.Ахматова, А.Блок, Н.Гумилев, М.Кузмин, М.Кристи, Б.Модзалевский, И.Садофьев, Ф.Сологуб, В.Ходасевич и П.Щеголев; секретари собрания - П.Губер и Б.Харитон. Среди участников собрания: ПО Всероссийского профессионального союза писателей, ПО ВС поэтов, петроградский Союз пролетарских писателей, изд-во «Всемирная литература», Дом литераторов, Дом искусств, Петроградский Пролеткульт, Опояз, Цех поэтов и др.
Выступают К.Федин (от Госиздата), И.Книжник (от Петроградского Пролеткульта), А.Волынский (от изд-ва «Всемирная литература»), А.Фомин (от Института книговедения), А.Кауфман (от Общества взаимопомощи литераторов и ученых), М.Кристи (от Отдела народного образования Петросовета), А.Кони (текст: ВЛ. № 3) и Н.Котляревский (текст: Там же), а также А.Блок и М.Кузмин (стихи). Принимается декларация о ежегодном чествовании Пушкина в день его смерти на всероссийском празднике памяти поэта.
В президиуме - А.Ахматова, А.Блок, Н.Гумилев, М.Кузмин, М.Кристи, Б.Модзалевский, И.Садофьев, Ф.Сологуб, В.Ходасевич и П.Щеголев; секретари собрания - П.Губер и Б.Харитон. Среди участников собрания: ПО Всероссийского профессионального союза писателей, ПО ВС поэтов, петроградский Союз пролетарских писателей, изд-во «Всемирная литература», Дом литераторов, Дом искусств, Петроградский Пролеткульт, Опояз, Цех поэтов и др.
Выступают К.Федин (от Госиздата), И.Книжник (от Петроградского Пролеткульта), А.Волынский (от изд-ва «Всемирная литература»), А.Фомин (от Института книговедения), А.Кауфман (от Общества взаимопомощи литераторов и ученых), М.Кристи (от Отдела народного образования Петросовета), А.Кони (текст: ВЛ. № 3) и Н.Котляревский (текст: Там же), а также А.Блок и М.Кузмин (стихи). Принимается декларация о ежегодном чествовании Пушкина в день его смерти на всероссийском празднике памяти поэта.
«Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Том 1. Часть 2. Москва и Петроград. 1921-1922 гг.» (изд. «ИМЛИ РАН» 2006 г.) стр. 26, 27
Дом Литераторов задумал вести агитацию за превращение дня смерти Пушкина в день национального празднования. Составили комиссию. 11 февр[аля] (надо бы 10-го) было торжественное заседание с представителями ученых и литер[атурных] организаций, а также правительства.
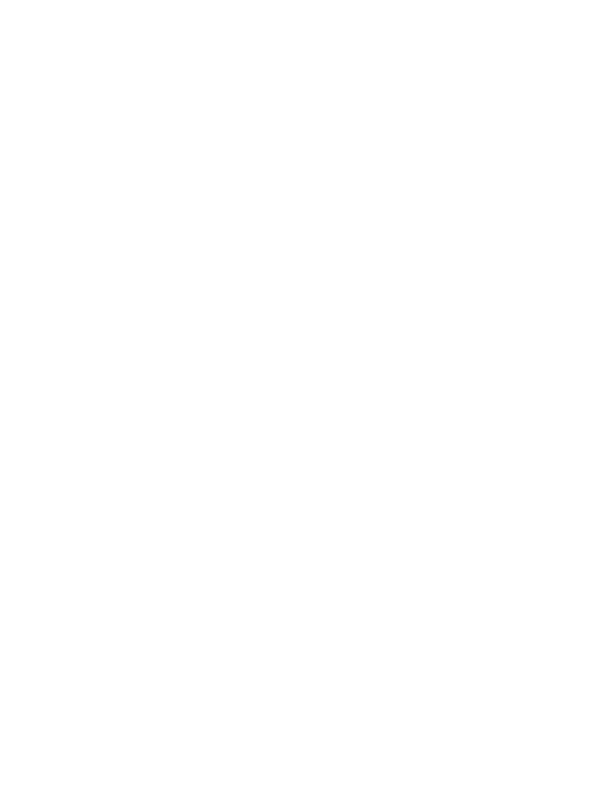
Владислав Ходасевич
Из письма В.Ф. Ходасевича – В.Г. Лидину – 28 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №14» (изд. «Феникс» - 1993 г.) стр. 422 – 423
В ту зиму Блок избегал людей. Конечно, он не был и на балу. Он запомнился мне на другом вечере. "Дом Литераторов", одно из последних прибежищ наших, задумал устраивать ежегодные всероссийские чествования памяти Пушкина в день его смерти. (Впоследствии они были перенесены на день рождения Пушкина; из них же возникли и зарубежные "Дни русской культуры"). Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи А. Ф. Кони, Н. А. Котляревского, Блока и моя. Кузмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел подготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер. На эстраде сидели представители "Дома Литераторов" - Н. М. Волковыский, Б. И. Харитон, В. Я. Ирецкий. За столом президиума, в центре - Котляревский (председатель), по правую руку от него - Ахматова, Щеголев и я, по левую - Кони, Кузмин и на конце стола Блок, который все время сидел, низко опустив голову.
Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности - заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, благожелательный. Под не сочувственными взглядами битком набитого зала он приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился: не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее:
- Русское общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти.
По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал: "И не предполагаем". Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой.
Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности - заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, благожелательный. Под не сочувственными взглядами битком набитого зала он приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился: не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее:
- Русское общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти.
По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал: "И не предполагаем". Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой.
«Некрополь»
Только что в 1 час ночи вернулся с Пушкинского празднества в Доме литераторов. Собрание историческое. Стол — за столом Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляревский, Щеголев и Илья Садофьев (из Пролеткульта). Должен был быть Кузьмин из Наробраза, но его не было. Жаль, за столом не сидел Ал. Ремизов. Пригласили и меня, но я отказался. Впрочем, меня пригласили в задний ряд, где сидели: Волынский, Губер, Волковыский и др. Речь Кони (в к-ром я почему-то разочаровался) — внутренне равнодушна и внешня. За дешевыми ораторскими фразами чувствовалась пустота. Стишки М. Кузмина, прошепелявенные не без ужимки,— стихи на случай — очень обыкновенные.
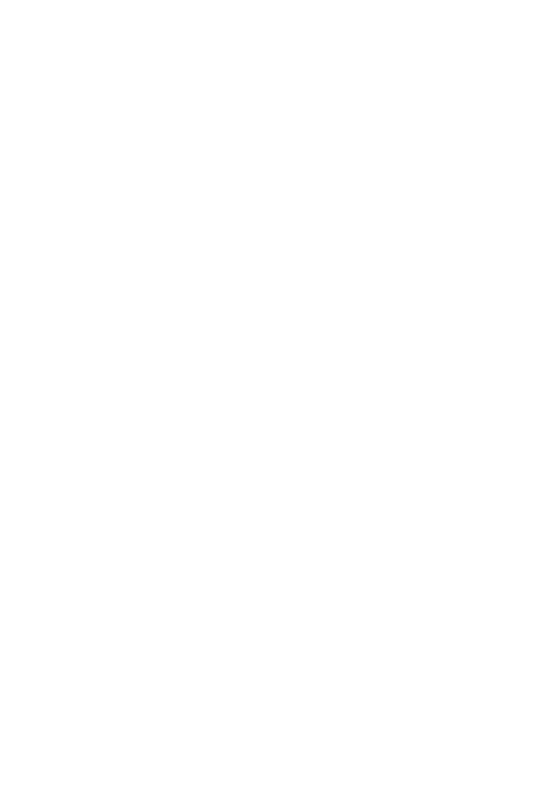
Корней Чуковский
Из дневников Корнея Чуковского – 13 февраля 1921 г «Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11: Дневник 1901 – 1921» (изд. «Агенство ФТМ» - 2013г.) стр. 320
Вечером мы рядышком сидим на чествовании. За большим столом на эстраде что-то говорит старый орангутанг Кони. Maitre [Михаил Лозинский] рассказывает мне на ухо то, что было до меня: вот этот, между Кони и Анной Ахматовой.
- Анной Ахматовой? - Я уже не слушаю, а жадно смотрю. Черная густая низкая челка, широкое, немного цыганское лицо, черное платье с высоким воротником и пестрый платок на плечах. Я придвинулась к окну, чтоб лучше видеть.
<…>
Теперь читает стихи Кузмин, с зализанными височками, кокетливо опираясь ручкой о кафедру. Теперь говорит Блок, такой славный в белом свитере, я все это слышу, великолепно слышу, но вижу только черную челку да широкий овал подбородка.
Вот она чему-то улыбнулась. Лицо стало наивное, детское какое-то, милое ужасно.
- Анной Ахматовой? - Я уже не слушаю, а жадно смотрю. Черная густая низкая челка, широкое, немного цыганское лицо, черное платье с высоким воротником и пестрый платок на плечах. Я придвинулась к окну, чтоб лучше видеть.
<…>
Теперь читает стихи Кузмин, с зализанными височками, кокетливо опираясь ручкой о кафедру. Теперь говорит Блок, такой славный в белом свитере, я все это слышу, великолепно слышу, но вижу только черную челку да широкий овал подбородка.
Вот она чему-то улыбнулась. Лицо стало наивное, детское какое-то, милое ужасно.
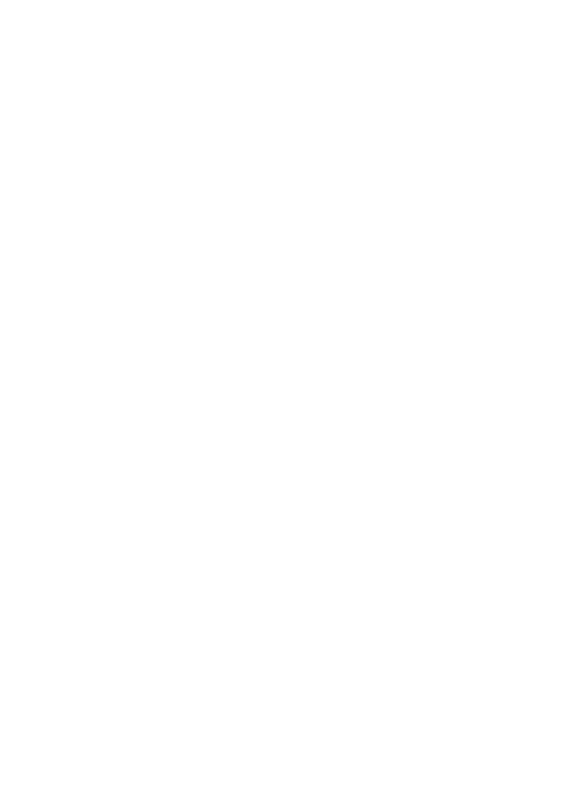
Ада (Олимпиада) Оношкович-Яцы́на
Из дневника А.И. Оношкович-Яцы́ной – 14 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №13» (изд. «Феникс» – 1993 г.) стр. 401 – 402
О, какой карикатурой на что-то был вчерашний Пушкинский вечер в Доме литераторов. И смешно, и жалко, и грустно было смотреть. Неужели Н<естор> А<лександрович> <Котляревский>, такой чуткий ко всякой безвкусице, не почувствовал ее вчера, и главное, той смешной роли, в которой был сам, как председатель «торжественного» собрания, годного в качестве материала для «Кривого зеркала». Самым симпатичным и приличным из всех «делегаций», выступавших с «декларациями», был Кристи, п<отому> ч<то> был самым скромным и непритязательным; и то, что он сказал, было хорошо, а именно, что Отдел Нар<одного> Образ<ования> еще не выработал никаких форм будущего ежегодного всероссийского чествования памяти Пушкина и он сам не знает, какой-характер они будут носить, но уверен только в одном, что ни на одном из поприщ современной жизни не встретится более общего языка и более общих интересов между современным правительством и русской интеллигенцией, как в деле чествования и увековечения памяти великого русского поэта.
2-е отделение вечера было тоже слабо, жидко; в нем-то не было ничего карикатурного, но впечатление общее от всего вечера таково, что Пушкин мог бы второй раз сказать: «Боже, как грустна наша Россия». Кони был трафаретен, Блок - скучен, только стихи Кузмина Пушкину были милы, да Н<естор> А<лександрович> пытался в нескольких заключительных словах сказать что-нибудь соответствующее исторической, казалось бы, торжественности момента, но этого оказалось мало, чтобы оживить вечер и придать ему краски...
2-е отделение вечера было тоже слабо, жидко; в нем-то не было ничего карикатурного, но впечатление общее от всего вечера таково, что Пушкин мог бы второй раз сказать: «Боже, как грустна наша Россия». Кони был трафаретен, Блок - скучен, только стихи Кузмина Пушкину были милы, да Н<естор> А<лександрович> пытался в нескольких заключительных словах сказать что-нибудь соответствующее исторической, казалось бы, торжественности момента, но этого оказалось мало, чтобы оживить вечер и придать ему краски...
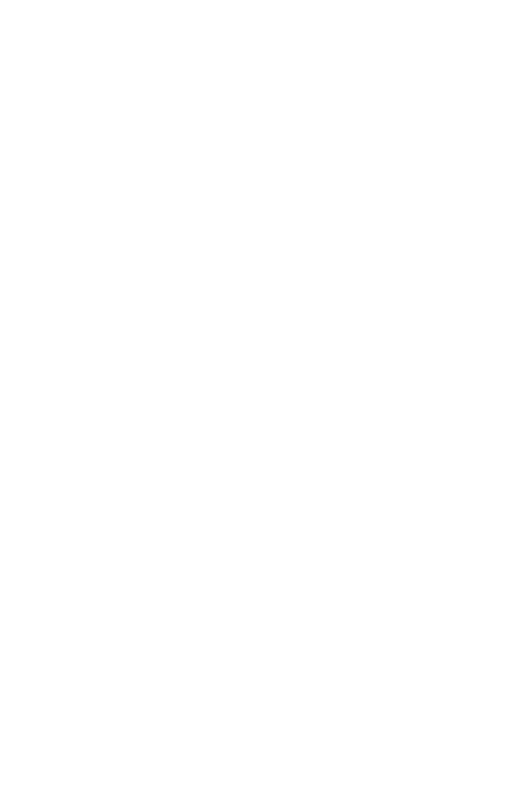
Евлалия Казанович
Из дневника Е.П. Казанович – 12 февраля 1921 г. Журнал «Литературное обозрение №10» 1980 г. стр. – 108-109
Я очень волновался относительно пушкинского вечера. Все было торжественно и тепло. Масса знакомых. Очень было приятно. Кажется, стихи понравились.
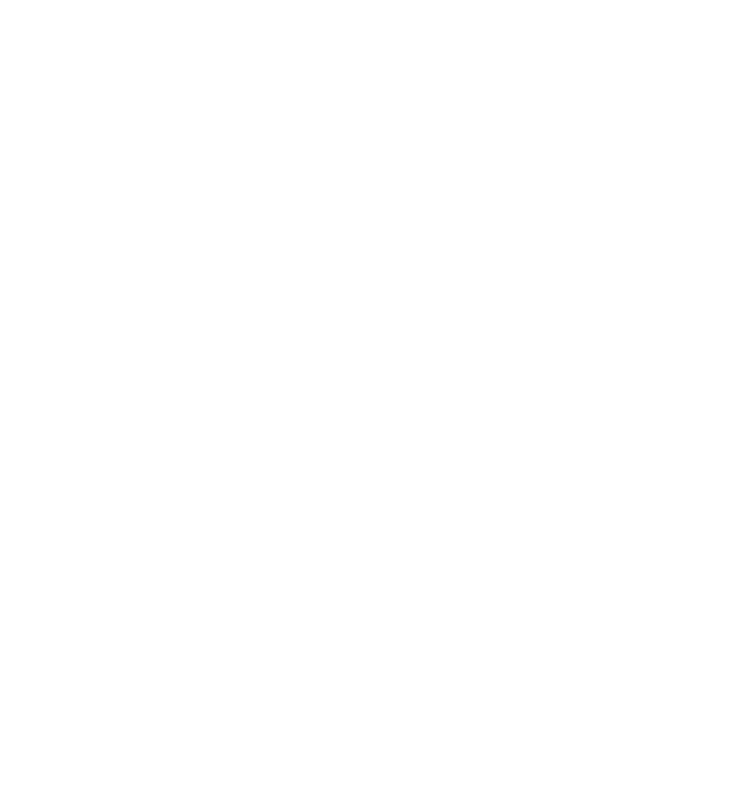
Михаил Кузмин
Из дневника М.А. Кузмина – 8 февраля 1921 г
Настроение в собрании было приподнятое, я бы сказал — не найду другого слова — молитвенное. Вероятно, тут действовало соединение двух имен: Пушкин — Блок. Вечер начал Михаил Кузмин, прочитав свое написанное к этому дню стихотворение "Пушкин". Потом на кафедру взошел Блок. Я очень помню, как Блок шел через зал по проходу, отстраненный, задумчивый, остановился около нас, посмотрел на брата, молча протянул ему руку, прошел на эстраду. Таким я видел его первый раз. Когда он говорил, ни одна черточка в его лице не двигалась. Шевелятся только губы, лицо неподвижно, руки недвижны. Свою речь он читал. Негромко и небыстро, глухим голосом. Но несмотря на переполненный зал, тишина стояла совершенная и каждое слово доносилось отчетливо. Что-то такое чувствовалось во всем облике Блока, в его фигуре, в застывшем лице — величие и обреченность. Тяжко, сумрачно, матовым голосом говорил он о легком, о веселом имени: Пушкин.
Он был необычайно красив. Я вообще не знаю другого поэта, у которого внешний облик так ассоциировался бы с его стихами, так подходил бы к его стихам.
Он был необычайно красив. Я вообще не знаю другого поэта, у которого внешний облик так ассоциировался бы с его стихами, так подходил бы к его стихам.

Александр Ивич (А.А. Бернштейн)
Журнал «Континент» №142 (№4, октябрь-декабрь 2009 г.) стр. 301
Блок говорил очень медленно, с большими паузами, гневным, страдальческим голосом. Мы слушали его с необыкновенным волнением.
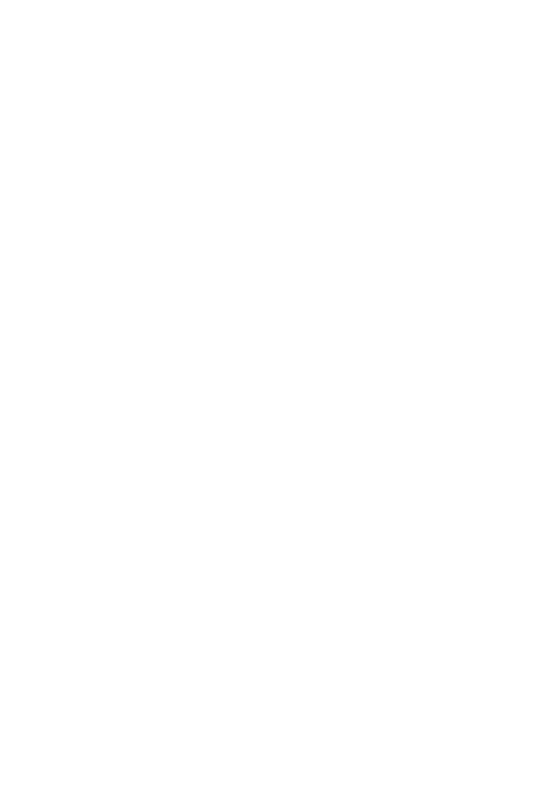
Корней Чуковский
Из воспоминаний Корнея Чуковского
Я осторожно оглянулся в эту минуту на присутствующих: беспокойство отражалось на многих лицах. Но голос Блока был, как обычно, ровен, тих и твёрд.
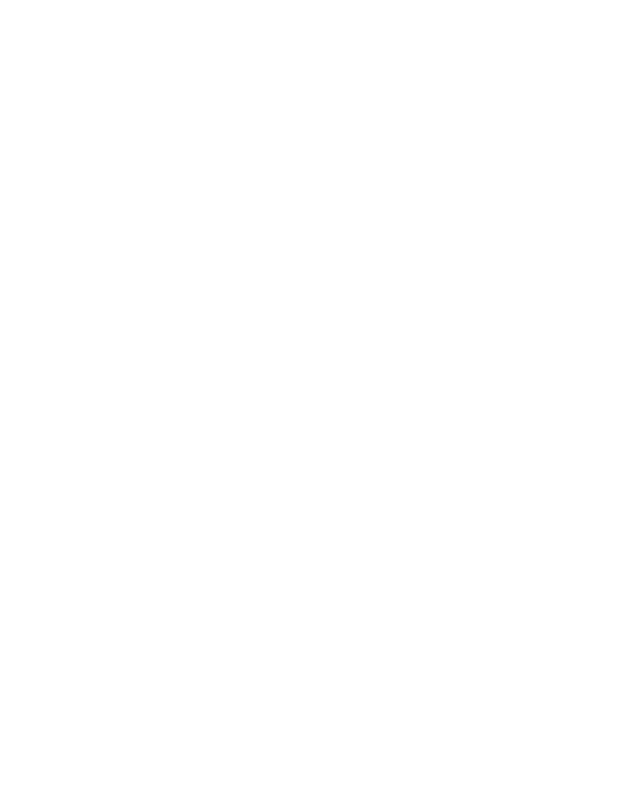
Юрий Анненков
«Дневник моих встреч»
Он [Блок] в белой фуфайке и в пиджаке. Сидел за столом неподвижно. (Еще до начала спрашивал: — Будет ли Ионов? И вообще из официальных кругов?) Пошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а нам (поэтам) теперь — смерть. Сказано это было так прикровенно, что некоторые не поняли. Садофьев, напр., аплодировал. Но большинство поняло и аплодировало долго.
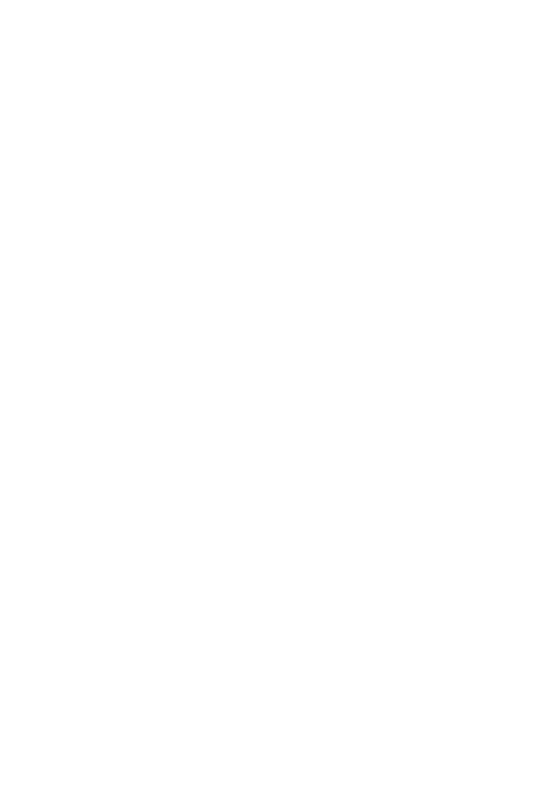
Корней Чуковский
Из дневника Корнея Чуковского – 13 февраля 1921 г «Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11: Дневник 1901 – 1921» (изд. «Агенство ФТМ» - 2013 г.) стр. 320
Свое вдохновенное слово о Пушкине он [Блок] читал последним. На нем был черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником. Весь жилистый и сухой, с обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отчеканивал: "Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение..." Бедный Кристи приметно страдал, ерзая на своем стуле. Мне передавали, что перед уходом, надевая пальто в передней, он сказал громко:
- Не ожидал я от Блока такой бестактности.
Однако, в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаянием. Автор "Двенадцати" завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие - свободу, хотя бы "тайную". И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком.
- Не ожидал я от Блока такой бестактности.
Однако, в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаянием. Автор "Двенадцати" завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие - свободу, хотя бы "тайную". И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком.
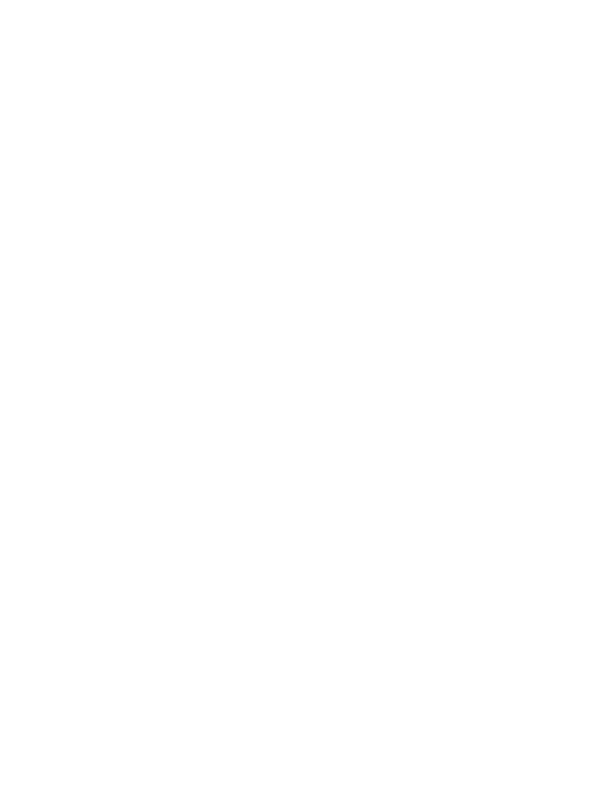
Владислав Ходасевич
«Некрополь»
Для меня особенно памятно торжественное празднование памяти Пушкина в Доме литераторов 11 февраля 1921 года. Вспоминаю прямую, статную фигуру Блока, стоящего на кафедре, читающего по тетрадке свою речь «О назначении поэта». В каждом слове его, в каждом звуке холодного, бесстрастного голоса была безмерная усталость, надлом, ущерб. Он читал при напряженном внимании слушателей. В зале был весь литературный Петербург, вернее, не весь, а избранная часть его, потому что доступ на вечер, за недостатком места, был очень затруднен. Едва закончил Блок последнюю фразу, раздались бурные аплодисменты, одобрительный гул голосов. Блок сложил тетрадку, по которой читал, и сел за зеленый стол рядом с другими членами президиума. Лицо его было несколько краснее обычного, он казался немного взволнованным. Но все та же усталость, все то же равнодушие к окружающему были в его взоре, безучастно скользившем по головам слушателей. Иногда его светло-голубые глаза принимали неприятное выражение отчужденности. Овации не утихали. Блок встал, белея снежным свитером над зеленым сукном стола, с головой, слегка закинутой назад, как всегда. Встал, постоял полминуты. Аплодисменты стали еще оглушительнее. Хлопали все, только А.Ф. Кони сомнительно покачивал головой, что-то шепча Н. А. Котляревскому, и, угрюмо насупясь, неподвижно сидел М. П. Кристи.
Блок смотрел куда-то в глубину зала пристально, холодно, не кланяясь, ничем не отвечая на шумные знаки одобрения. Потом сел. Казалось, вся обстановка этого чествования ему претила. Недаром он так долго колебался: выступить ли ему с речью о Пушкине или нет.
Блок смотрел куда-то в глубину зала пристально, холодно, не кланяясь, ничем не отвечая на шумные знаки одобрения. Потом сел. Казалось, вся обстановка этого чествования ему претила. Недаром он так долго колебался: выступить ли ему с речью о Пушкине или нет.
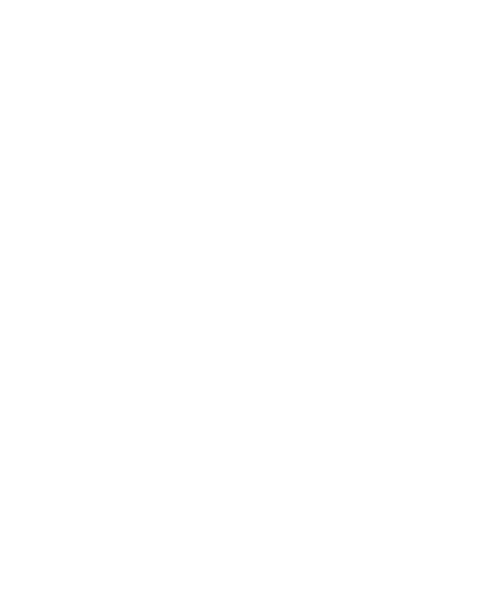
Эрих Голлербах
Журнал «Звезда» №11 (изд. «Художественная литература» 1990 г.) стр. 160
Я уверена, что этого выступления Блока и его речи никто из присутствовавших забыть не мог.
В этот вечер на эстраде Дома литераторов он держался, как всегда, очень прямо. И совершенно неподвижно. Казалось, он даже не открывал рта, произнося слова. Его глухой, усталый голос возникал как будто сам собой. Блок был скорее похож на статую, чем на живого человека. Но от его светлых вьющихся волос исходило сияние.
Конечно, это была только игра света и теней – электрическая лампа, как прожектор, освещала верхнюю часть его головы, оставляя в тени и без того темное лицо.
Но сияние это тогда многие заметили и рассказывали на следующий день неполучившим приглашения на торжество:
– Блок был такой удивительный. Вся публика принарядилась кто как мог. Гумилев, подумайте, даже фрак надел! А Блок в синем костюме и в белом свитере, как конькобежец. Такой стройный, тонкий, молодой. Если бы не лицо. Ах, какое лицо! Темное, большеглазое, как лики святых на рублевских иконах. И над ним сияние, да, да, настоящее сияние, как на иконе. Не верите? Спросите других...
Блок действительно произвел в тот вечер на всех присутствовавших странное, неизгладимое впечатление.
Он стоял на эстраде. Его все ясно видели. И в то же время казалось, что его здесь нет. Но несмотря на это смутное ощущение отсутствия – или, может быть, благодаря ему, – все, что он говорил своим глухим, замогильным голосом, еще и сейчас звучит в моих ушах. С первой же фразы:
– Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкина. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни... Это легкое имя Пушкина...
Никогда до Блока никому и в голову не приходило назвать имя Пушкина веселым и легким.
Ничего легкого. Ничего веселого. Ведь Пушкин – от пушки, а не от пушинки. Что веселого, что легкого в пушке?
Но вот усталый, глухой, потусторонний голос произнес эти слова, и в ответ им, как ветер, пронесся радостный вздох слушателей. И все сразу почувствовали, как метко, как правильно это определение – «веселое, легкое имя Пушкина».
На мгновение отсвет веселого, легкого имени Пушкина лег и на темное лицо Блока. Казалось, он сейчас улыбнется. Но нет, Блок не улыбнулся. Только электрический свет над его головой как будто засиял еще ярче.
И всем стало ясно, что никто из современников поэтов – никто, кроме Блока, – не мог бы так просто и правдиво говорить о Пушкине. Что Блок прямой наследник Пушкина. И что, говоря о Пушкине, Блок говорит и о себе.
– Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Пушкина убило отсутствие воздуха...
Слова гулко и тяжело падают на самое дно сознания.
И многим в этот вечер стало ясно, что и Блока убьет «отсутствие воздуха», что неизбежная гибель Блока близка, хотя никто еще не знал, что Блок болен. Но весь его вид и даже звук его голоса как бы говорили:
Да, я дышу еще мучительно и трудно.
Могу дышать. Но жить уж не могу.
В этот вечер на эстраде Дома литераторов он держался, как всегда, очень прямо. И совершенно неподвижно. Казалось, он даже не открывал рта, произнося слова. Его глухой, усталый голос возникал как будто сам собой. Блок был скорее похож на статую, чем на живого человека. Но от его светлых вьющихся волос исходило сияние.
Конечно, это была только игра света и теней – электрическая лампа, как прожектор, освещала верхнюю часть его головы, оставляя в тени и без того темное лицо.
Но сияние это тогда многие заметили и рассказывали на следующий день неполучившим приглашения на торжество:
– Блок был такой удивительный. Вся публика принарядилась кто как мог. Гумилев, подумайте, даже фрак надел! А Блок в синем костюме и в белом свитере, как конькобежец. Такой стройный, тонкий, молодой. Если бы не лицо. Ах, какое лицо! Темное, большеглазое, как лики святых на рублевских иконах. И над ним сияние, да, да, настоящее сияние, как на иконе. Не верите? Спросите других...
Блок действительно произвел в тот вечер на всех присутствовавших странное, неизгладимое впечатление.
Он стоял на эстраде. Его все ясно видели. И в то же время казалось, что его здесь нет. Но несмотря на это смутное ощущение отсутствия – или, может быть, благодаря ему, – все, что он говорил своим глухим, замогильным голосом, еще и сейчас звучит в моих ушах. С первой же фразы:
– Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкина. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни... Это легкое имя Пушкина...
Никогда до Блока никому и в голову не приходило назвать имя Пушкина веселым и легким.
Ничего легкого. Ничего веселого. Ведь Пушкин – от пушки, а не от пушинки. Что веселого, что легкого в пушке?
Но вот усталый, глухой, потусторонний голос произнес эти слова, и в ответ им, как ветер, пронесся радостный вздох слушателей. И все сразу почувствовали, как метко, как правильно это определение – «веселое, легкое имя Пушкина».
На мгновение отсвет веселого, легкого имени Пушкина лег и на темное лицо Блока. Казалось, он сейчас улыбнется. Но нет, Блок не улыбнулся. Только электрический свет над его головой как будто засиял еще ярче.
И всем стало ясно, что никто из современников поэтов – никто, кроме Блока, – не мог бы так просто и правдиво говорить о Пушкине. Что Блок прямой наследник Пушкина. И что, говоря о Пушкине, Блок говорит и о себе.
– Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Пушкина убило отсутствие воздуха...
Слова гулко и тяжело падают на самое дно сознания.
И многим в этот вечер стало ясно, что и Блока убьет «отсутствие воздуха», что неизбежная гибель Блока близка, хотя никто еще не знал, что Блок болен. Но весь его вид и даже звук его голоса как бы говорили:
Да, я дышу еще мучительно и трудно.
Могу дышать. Но жить уж не могу.
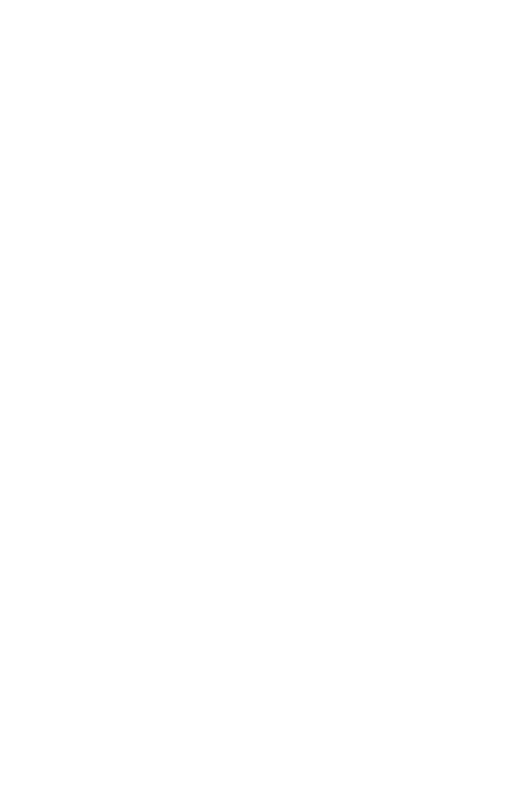
Ирина Одоевцева
«На берегах Невы» (изд. «Художественная литература» – 1989 г.) стр. 203 – 207
Вся его [Блока] речь о Пушкине, произнесенная им в 1921 году, - страстное проклятие черни. Я слышал эту предсмертную речь и помню, с какой гневной тоской говорил он об этих своих исконных врагах, о черни, уничтожившей Пушкина, причем несколько раз оговаривался, что чернь для Пушкина и для него не народ, не «широкая масса». «Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ»... «чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня... они люди; это - не особенно лестно; люди - дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена „заботами суетного света"».
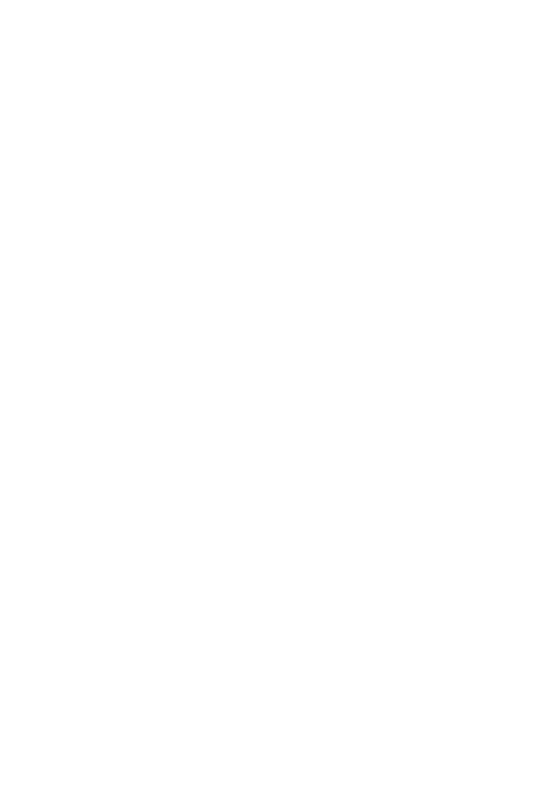
Корней Чуковский
Из воспоминаний Корнея Чуковского
Во время блоковской речи появился Гумилев. Под руку с тою же дамою, что была с ним на балу, он торжественно шел через весь зал по проходу. Однако, на этот раз в его опоздании на пушкинский вечер, и в его фраке, (быть может, рядом со свитером Блока), и в вырезном платье его спутницы было что-то неприятное. На эстраде было для него приготовлено место.
Он уже занес ногу на скрипучую ступеньку, но Котляревский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел.
Он уже занес ногу на скрипучую ступеньку, но Котляревский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел.
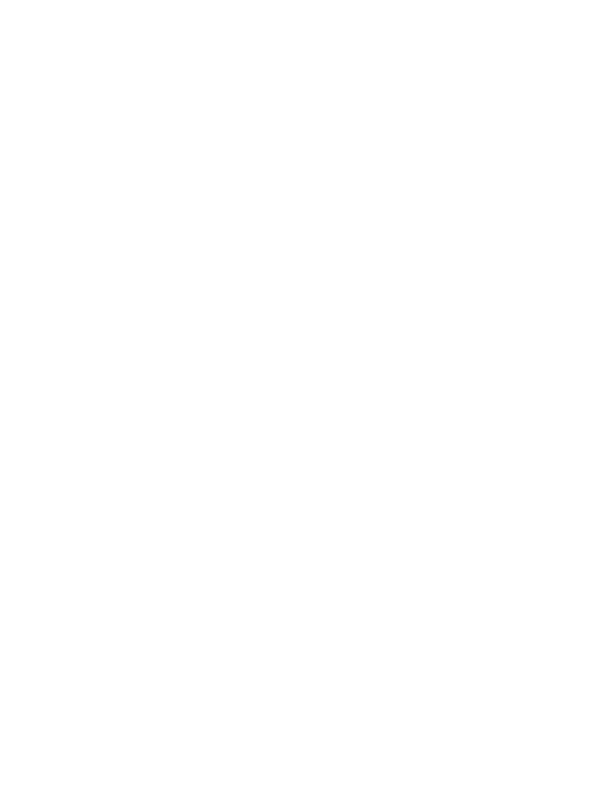
Владислав Ходасевич
«Некрополь»
Должно быть, желание Гумилева появиться во фраке в сопровождении молодой дамы в декольтированном платье было настолько сильно, что оно как бы материализовалось.
Ничем иным нельзя объяснить то, что Ходасевич в своих воспоминаниях об этом вечере пишет: Гумилев явился во фраке под руку с молодой дамой в бальном платье.
Могу засвидетельствовать, что никакая «молодая дама в бальном платье» не сопутствовала Гумилеву. Он пришел один.
А среди всех присутствующих представительниц прекрасного пола – почтенных и заслуженных – ни одной молодой дамы в бальном платье не только не было, но и быть не могло.
Ничем иным нельзя объяснить то, что Ходасевич в своих воспоминаниях об этом вечере пишет: Гумилев явился во фраке под руку с молодой дамой в бальном платье.
Могу засвидетельствовать, что никакая «молодая дама в бальном платье» не сопутствовала Гумилеву. Он пришел один.
А среди всех присутствующих представительниц прекрасного пола – почтенных и заслуженных – ни одной молодой дамы в бальном платье не только не было, но и быть не могло.
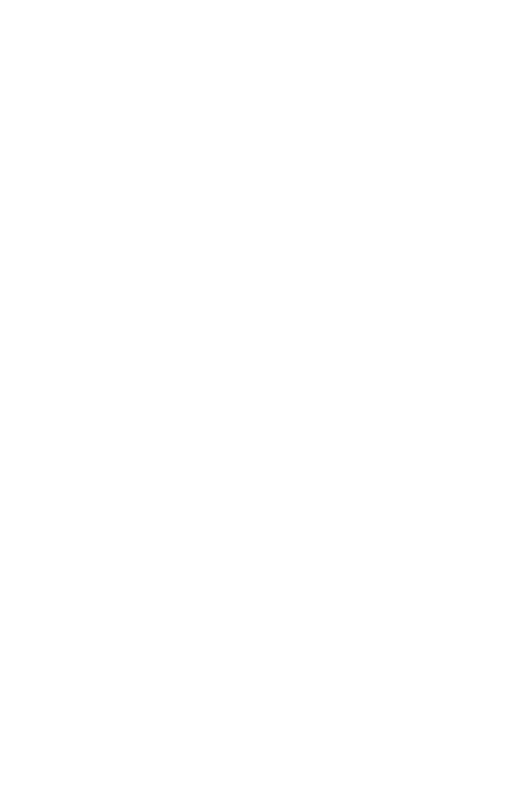
Ирина Одоевцева
«На берегах Невы» (изд. «Художественная литература» – 1989 г.) стр. 203 – 207
На парадное пушкинское заседание явился во фраке [Гумилёв] - это в Петербурге, в феврале 1921 года! - и с опозданием, когда все уже сидели на своих местах, отчего его фрак сразу был всеми замечен. И одними этот фрак был принят, как презрительное: «я плюю на большевиков», другими - как внешнее проявление почтительного отношения к событию, связанному с именем Пушкина. Думаю, что у него была и та, и другая цель. Было это и дерзко, и красиво.
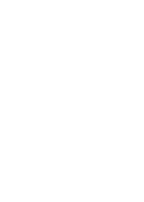
Борис Харитон
«Гумилёв – каким мы его знали (К пятилетию со дня расстрела)»
Изучение внешности предметов, развивающее зрительную память и приучающее к символике вещей — вероятно, результат художественной и музейной работы,— выработало во мне привычку связывать все переживания и настроения с конкретными образами. И вот для меня вечер 11 февраля 1921 года расслаивается на три категории явлений: одна из этих категорий — белый свитер и синий пиджак Блока, стихия снега и ночи, холода и молчания; вторая — черный сюртук Кони, сюртук литературной добродетели, маститой посредственности, умеренного либерализма; третья — фрак Гумилева, торжественный символ хорошего тона, элегантного эстетизма и стихотворческого лоска. Помнится, Н. С. Гумилеву надлежало занять место за столом президиума вместе с М. А. Кузминым, А. А. Ахматовой, П. Е. Щеголевым и др. Он запоздал и, войдя в уже переполненный зал, прошел в первый ряд, прямой и тонкий, как жердь, сел, скрестил руки и кивнул Ахматовой, созерцавшей его с высоты эстрады. Во всем зале это был единственный человек во фраке; глядя на пластрон, горою вздымавшийся на груди поэта, я видел в нем олицетворение Парнасской поэзии, а фалдочки, свешивавшиеся сзади со стула, казались мне эмблемой акмеизма. Я вовсе не шучу... и не считаю все это забавной мелочью. По-моему, пора научиться в так называемых «мелочах» раскрывать сокровенный смысл. Психология обыденной жизни не менее важна, чем величайшие исторические события, и нужно искать тайный смысл в самых незначительных, на первый взгляд, явлениях.
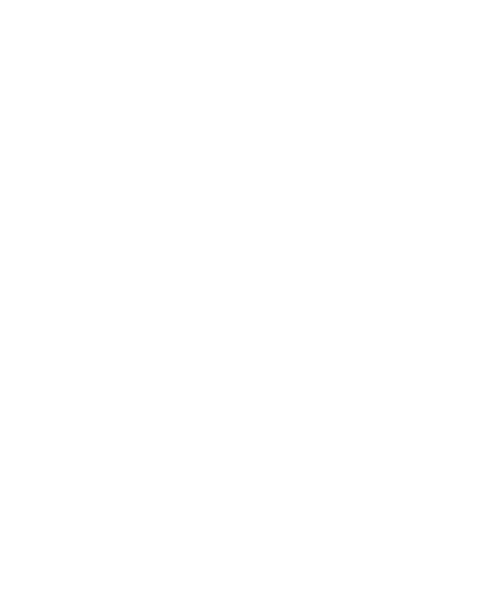
Эрих Голлербах
«Образ Блока. Воспоминания и впечатления» - Журнал «Звезда» №11 (изд. «Художественная литература» 1990 г.) стр. 160
Пушкинский вечер. Странное торжество - кто во фраке, кто в тулупе - в нетопленном зале. Блок на эстраде говорит о Пушкине – невнятно и взволнованно. Ахматова стоит в углу. На ней старомодное шелковое платье с высокой талией. Худое - жалкое - прекрасное лицо. Она стоит одна. К ней подходят, целуют руку. Чаще всего - молча. Что ей, такой, сказать. Не спрашивать же, "как поживаете".
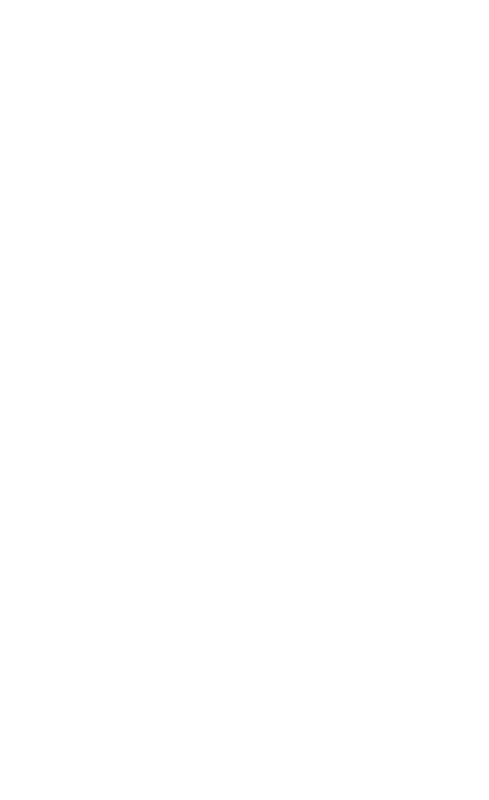
Георгий Иванов
«Петербургские зимы»
Я помню атмосферу зала, о которой совершенное вранье написал Георгий Иванов в своих воспоминаниях. Он пишет, что было холодно, было совершенно не холодно, что все были в пальто, ничего подобного. В Доме литераторов вообще не было холодно, туда ходили греться.

Александр Ивич (А.А. Бернштейн)
Журнал «Континент» №142 (№4, октябрь-декабрь 2009 г.) стр. 301
Блок кончил. С минуту он еще постоял молча, в задумчивости, безучастно глядя перед собой. Потом – не обращая внимания на восторженный гром аплодисментов – повернулся и медленно ушел.
Ушел с эстрады. И, не появившись больше на требовательные вызовы, – ушел домой.
А зал продолжал бесноваться. Такой овации в стенах Дома литераторов еще никогда не было.
Даже Гумилев, на минуту забыв о своем «фрачном великолепии», вскочил с места и, яростно отбивая ладони, исступленно кричал: «Блок!.. Блок!..»
На эстраду выбежал растерянный, смущенный Волковысский и, разведя руками, произнес, будто извиняясь:
– Александра Александровича здесь больше нет! Александр Александрович уже ушел!
К Гумилеву сразу вернулось все его олимпийское величие. Он спокойно обернулся ко мне:
– Надо сознаться, уход на редкость эффектный. Но ведь он даже не отдал себе в этом отчета, не заметил. Пойдемте и мы. Поциркулируем в кулуарах.
Ушел с эстрады. И, не появившись больше на требовательные вызовы, – ушел домой.
А зал продолжал бесноваться. Такой овации в стенах Дома литераторов еще никогда не было.
Даже Гумилев, на минуту забыв о своем «фрачном великолепии», вскочил с места и, яростно отбивая ладони, исступленно кричал: «Блок!.. Блок!..»
На эстраду выбежал растерянный, смущенный Волковысский и, разведя руками, произнес, будто извиняясь:
– Александра Александровича здесь больше нет! Александр Александрович уже ушел!
К Гумилеву сразу вернулось все его олимпийское величие. Он спокойно обернулся ко мне:
– Надо сознаться, уход на редкость эффектный. Но ведь он даже не отдал себе в этом отчета, не заметил. Пойдемте и мы. Поциркулируем в кулуарах.
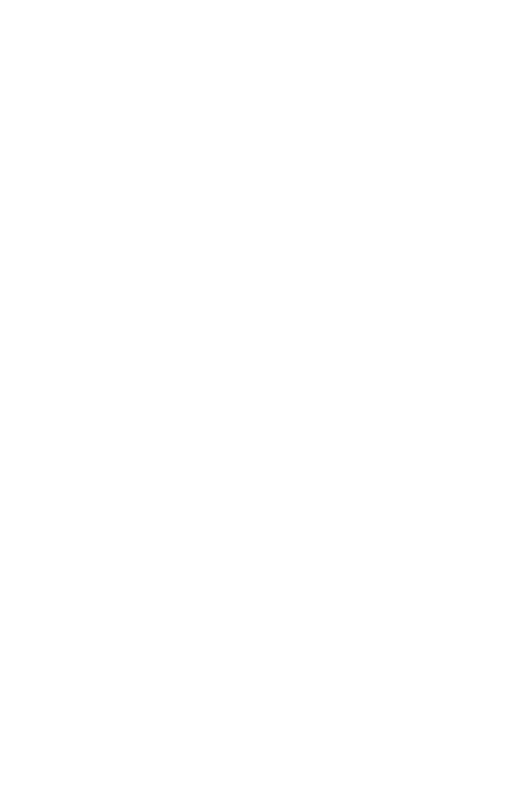
Ирина Одоевцева
«На берегах Невы» (изд. «Художественная литература» – 1989 г.) стр. 203 – 207
Перерыв
И он [Гумилёв] стал прокладывать дорогу в толпе зрителей, говоря громко, так, чтобы все слышали:
– Незабываемая речь. Потрясающая речь. Ее можно только сравнить с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину. Но, знаете, и она тоже, как речь Достоевского, когда ее напечатают, наверно, многое потеряет. Только те, кто сам слышал... А так даже не поймут, что тут особенного.
Он остановился у стены и, сложив руки на груди, благосклонно, с видом царствующей особы, присутствующей на спектакле, принялся обозревать публику.
Все, кто был знаком с ним – а таковых было большинство, – подходили к нему. Всем было интересно посмотреть на давно невиданное зрелище: на «человека во фраке».
И он, принимая это всеобщее внимание к себе как вполне заслуженное, находил для каждого улыбку и любезное слово.
Так «Собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина» превратилось в апофеоз Блока и – по выражению Георгия Иванова – в «самофракийскую победу» Гумилева.
– Незабываемая речь. Потрясающая речь. Ее можно только сравнить с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину. Но, знаете, и она тоже, как речь Достоевского, когда ее напечатают, наверно, многое потеряет. Только те, кто сам слышал... А так даже не поймут, что тут особенного.
Он остановился у стены и, сложив руки на груди, благосклонно, с видом царствующей особы, присутствующей на спектакле, принялся обозревать публику.
Все, кто был знаком с ним – а таковых было большинство, – подходили к нему. Всем было интересно посмотреть на давно невиданное зрелище: на «человека во фраке».
И он, принимая это всеобщее внимание к себе как вполне заслуженное, находил для каждого улыбку и любезное слово.
Так «Собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина» превратилось в апофеоз Блока и – по выражению Георгия Иванова – в «самофракийскую победу» Гумилева.
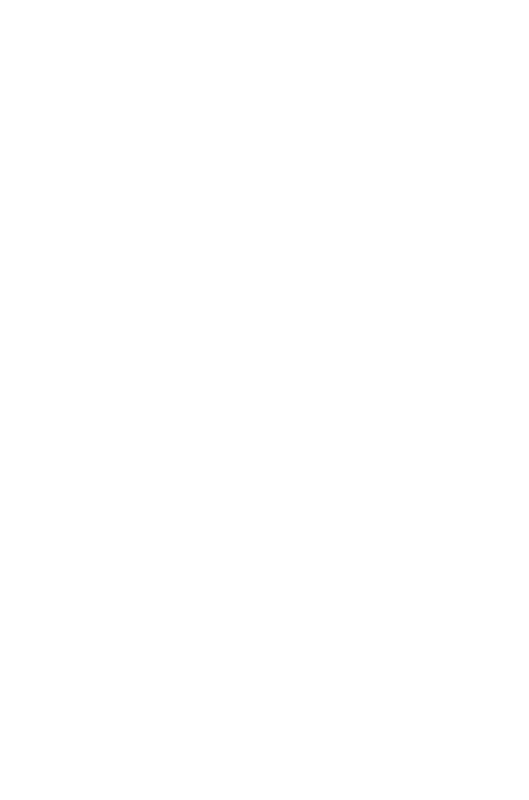
Ирина Одоевцева
«На берегах Невы» (изд. «Художественная литература» – 1989 г.) стр. 203 – 207
После в артистической — трясущая головой Марья Валентиновна Ватсон, фанатичка антибольшевизма, долго благодарила его [Блока], утверждая, что он «загладил» свои «Двенадцать». Кристи сказал: «Вот не думал, что Блок, написавший «Двенадцать», сделает такой выпад». Волынский говорил: «Это глубокая вещь». Блок несуетливо и медленно разговаривал потом с Гумилевым.
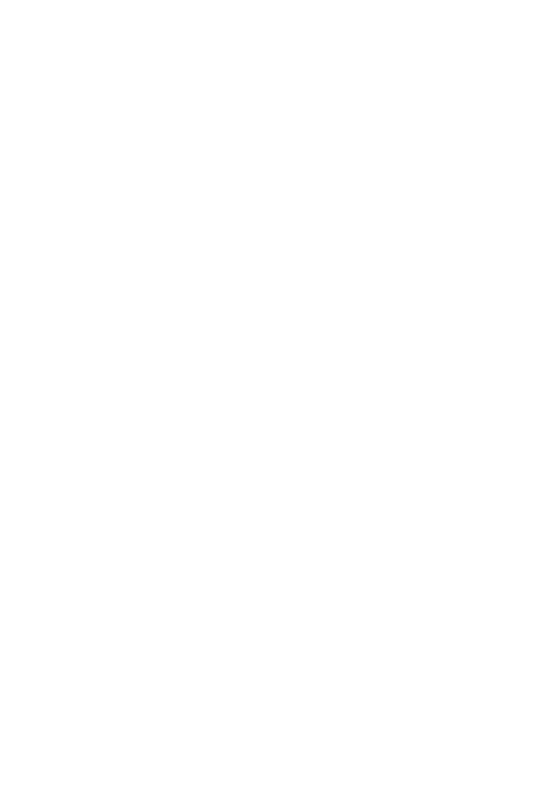
Корней Чуковский
Из дневника Корнея Чуковского – 13 февраля 1921 г «Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11: Дневник 1901 – 1921» (изд. «Агенство ФТМ» - 2013 г.) стр. 320
Перерыв. Мы все в битком набитой комнатке, где выставка. Одоевцева картавит:
- Вам нравится Анна Ахматова?
Та только что прошла мимо. И я теперь совсем хорошо разглядела нос с горбинкой и светлые, пустые и грустные глаза. Знаю, отчего они – пустые!
- Очень, - отвечаю Одоевцевой. - У нее чудесное лицо!
- Да, милое, только совсем простое, я думала, гораздо лучше, - дергает плечиком Одоевцева.
- Она прежде была очень хороша, - шепелявит Георгий Иванов.
А она разговаривает с Maitr'ом [Михаилом Лозинским]. Я рассеянно толкую о чем-то с Гумом, а где-то в глубине думаю о Мише [Лозинском] и о ней. И кажется мне, что они оба из какой-то страшной и высокой жизни, а я только чуть-чуть, носочком сапога ступила на этот порог и оттуда с порога со страхом Божиим смотрю на них, но знаю, что войду. (Это знает и Миш, оттого и любит, в кредит.)
На самом деле я стою к ним спиной и вижу только Гума, облаченного во фрак.
- Вам нравится Анна Ахматова?
Та только что прошла мимо. И я теперь совсем хорошо разглядела нос с горбинкой и светлые, пустые и грустные глаза. Знаю, отчего они – пустые!
- Очень, - отвечаю Одоевцевой. - У нее чудесное лицо!
- Да, милое, только совсем простое, я думала, гораздо лучше, - дергает плечиком Одоевцева.
- Она прежде была очень хороша, - шепелявит Георгий Иванов.
А она разговаривает с Maitr'ом [Михаилом Лозинским]. Я рассеянно толкую о чем-то с Гумом, а где-то в глубине думаю о Мише [Лозинском] и о ней. И кажется мне, что они оба из какой-то страшной и высокой жизни, а я только чуть-чуть, носочком сапога ступила на этот порог и оттуда с порога со страхом Божиим смотрю на них, но знаю, что войду. (Это знает и Миш, оттого и любит, в кредит.)
На самом деле я стою к ним спиной и вижу только Гума, облаченного во фрак.
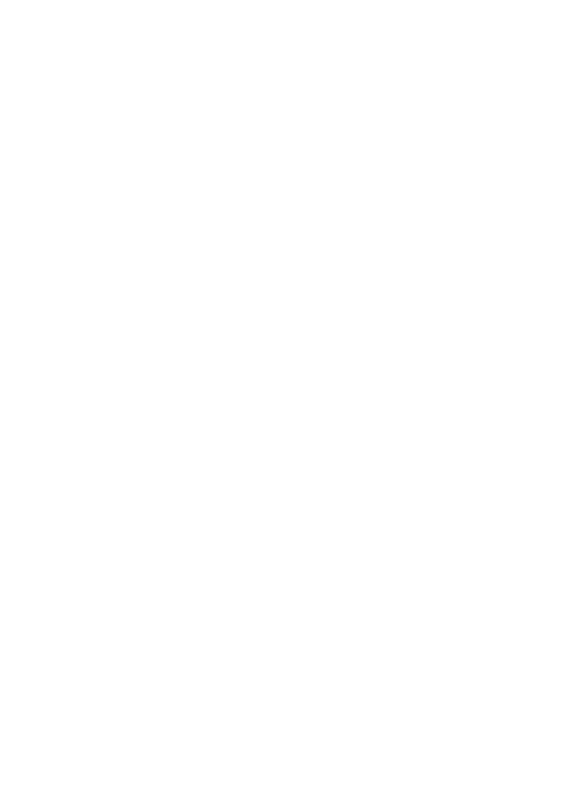
Ада (Олимпиада) Оношкович-Яцы́на
Из дневника А.И. Оношкович-Яцы́ной – 14 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №13» (изд. «Феникс» – 1993 г.) стр. 401 – 402
Второе отделение
Как-то ужасно странно, что Maitre [Михаил Лозинский] садится на второе отделение опять со мной, на те же места.
- Вы первый раз видели Анну Ахматову?
- Да. У нее очень хорошее лицо - и цыганское, и детское, и грустное, - резюмирую я свои впечатления.
- Да. Лицо у нее невеселое.
Бриан поет татьянинское письмо:
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души...
А суждено совсем иное.
- Вы первый раз видели Анну Ахматову?
- Да. У нее очень хорошее лицо - и цыганское, и детское, и грустное, - резюмирую я свои впечатления.
- Да. Лицо у нее невеселое.
Бриан поет татьянинское письмо:
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души...
А суждено совсем иное.
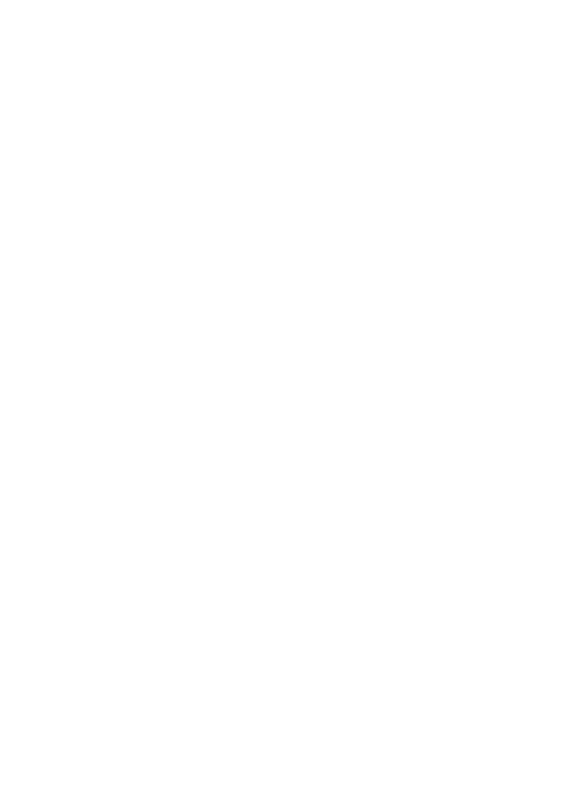
Ада (Олимпиада) Оношкович-Яцы́на
Из дневника А.И. Оношкович-Яцы́ной – 14 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №13» (изд. «Феникс» – 1993 г.) стр. 403
Пела Бриан «письмо Татьяны» — никакого на меня впечатления. Когда я сказал, что Бриан — акушерка, Волынский отозвался: «Ну вот, вы недостаточно чутки...» Блок вдруг оживился: да, да, акушерка, верно! — и даже благодарно посмотрел на меня. Вол.: «Значит, вы очень чутки».
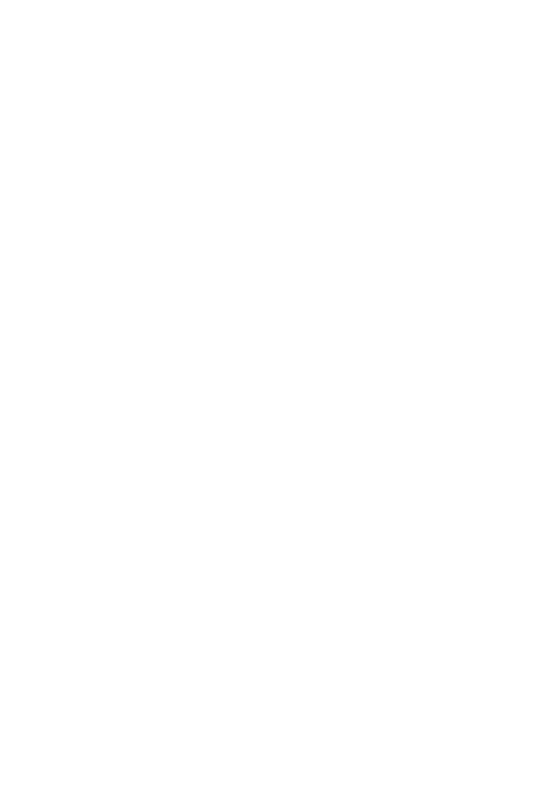
Корней Чуковский
Из дневника Корнея Чуковского – 13 февраля 1921 г «Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11: Дневник 1901 – 1921» (изд. «Агенство ФТМ» - 2013 г.) стр. 320
Все остаются на заседание по поводу того, что в заграничной печати Чуковского обозвали «большевицким агентом», а я иду одна бесконечный путь с Бассейной до Египетского моста.
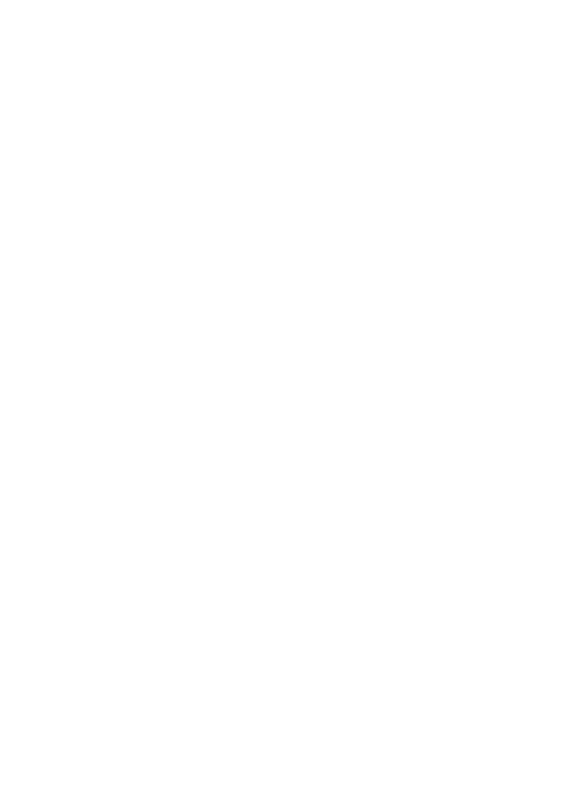
Ада (Олимпиада) Оношкович-Яцы́на
Из дневника А.И. Оношкович-Яцы́ной – 14 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №13» (изд. «Феникс» – 1993 г.) стр. 403
После концертного отделения, когда публика начала расходиться по домам, в гобеленовой комнате Дома литераторов состоялось, по инициативе Чуковского, экстренное собрание Союза писателей. Рассказываю об этом опять-таки потому, что мне вспоминалось тогдашнее настроение Блока. Собралось очень немного народу: А. Л. Волынский, Н. С. Гумилев, Георгий Иванов, Мандельштам, Лозинский, Чуковский, еще кто-то. Помню, я показывал Блоку первые издания «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган», бывшие случайно со мною. Он посмотрел без интереса, в отличие от других, с большим любопытством «ухватившихся» за мои книги, и это характерно для Блока. Редкий писатель не бывает библиофилом. Блок не был фанатиком книги, внешность книги его мало занимала, книжную графику он считал ненужным «эстетизмом».
Собрание выслушало длинную и обстоятельную жалобу К. И. Чуковского на Герберта Уэллса, смертельно обидевшего бедного К. И. каким-то не очень почтительным отзывом. Чуковский убедительно раскрыл перед нами чудовищное злодейство Уэллса. Припоминаю, что все это дело не стоило выеденного яйца, но недаром же Чуковскому отпущено столько остроумия и красноречия: он произвел «потрясающее впечатление». Начался настоящий диспут. Один только Блок сидел молча, раскрыв перед собой тетрадь, по которой читал речь. Вся его поза, понурая и скучающая, как бы говорила: как все это не нужно, не важно и просто глупо! Наметили какую-то резолюцию в защиту смертельно обиженного Чуковского. «Александр Александрович, как Ваше мнение?» — обратился кто-то к Блоку. «Да, да», — отозвался он машинально. «Может быть, Вам угодно высказать свое мнение? Хотелось бы обсудить всесторонне».— «Не знаю, право, вот, может быть, Николай Степанович выскажется». Николай Степанович высказался подробно и вразумительно, а Блок так и не сообщил своего мнения.
Собрание выслушало длинную и обстоятельную жалобу К. И. Чуковского на Герберта Уэллса, смертельно обидевшего бедного К. И. каким-то не очень почтительным отзывом. Чуковский убедительно раскрыл перед нами чудовищное злодейство Уэллса. Припоминаю, что все это дело не стоило выеденного яйца, но недаром же Чуковскому отпущено столько остроумия и красноречия: он произвел «потрясающее впечатление». Начался настоящий диспут. Один только Блок сидел молча, раскрыв перед собой тетрадь, по которой читал речь. Вся его поза, понурая и скучающая, как бы говорила: как все это не нужно, не важно и просто глупо! Наметили какую-то резолюцию в защиту смертельно обиженного Чуковского. «Александр Александрович, как Ваше мнение?» — обратился кто-то к Блоку. «Да, да», — отозвался он машинально. «Может быть, Вам угодно высказать свое мнение? Хотелось бы обсудить всесторонне».— «Не знаю, право, вот, может быть, Николай Степанович выскажется». Николай Степанович высказался подробно и вразумительно, а Блок так и не сообщил своего мнения.
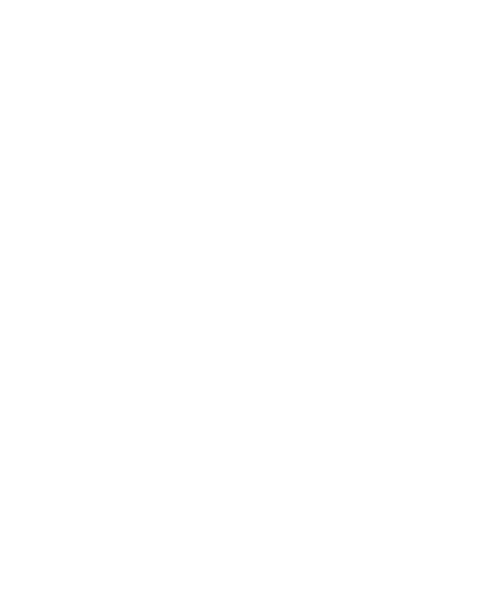
Эрих Голлербах
«Образ Блока. Воспоминания и впечатления» - Журнал «Звезда» №11 (изд. «Художественная литература» 1990 г.) стр. 160
Потом заседание «Всерос. Союза Писателей» — о моем письме по поводу Уэллса. Спасибо всем. Каждый сочувствовал мне и хотел меня защитить. Очень горячо говорил Шкловский, Губер, Гумилев. Я и не ожидал, что люди вообще могут так горячо отозваться на чужую обиду. Губер живо составил текст постановления, и я ушел с заседания в восторге. От восторга я пошел проводить Мишу Слонимского, Шкловского, Оцупа — вернулся домой и почти не спал.— Опять идет бесхлебица, тоска недоедания. Уже хлеб стал каким-то редким лакомством.
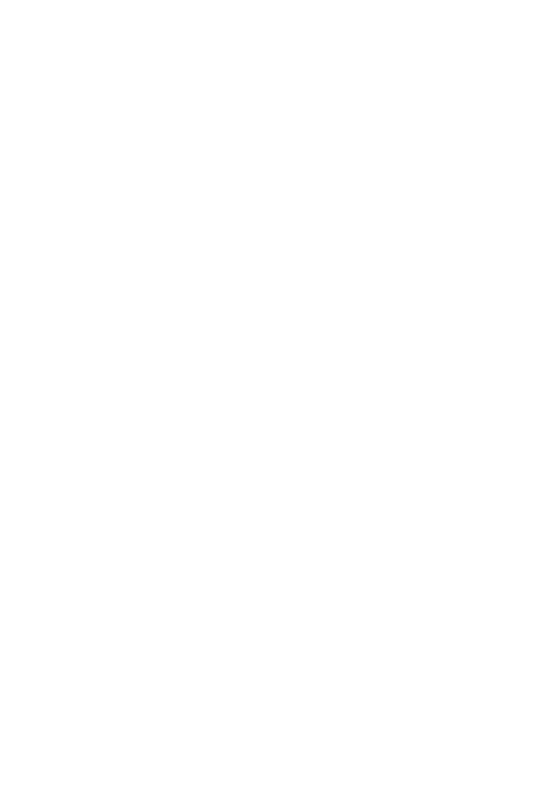
Корней Чуковский
Из дневника Корнея Чуковского – 13 февраля 1921 г «Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11: Дневник 1901 – 1921» (изд. «Агенство ФТМ» - 2013 г.) стр. 320
Щеголев хохочет потрясающе, сед, крепок, лицо ленивое и добродушное, но лукавое. Он рассказывал, как он помирился с Лернером. Были они, как два пушкиниста, в самой непримиримой вражде. Но с Пушкинских торжеств возвращались вместе с Замятиными домой — через Неву, Лернер шел сзади один, вдруг случилась полынья. Через полынью доска. Все прошли по доске, один Лернер — трусит. Пройдет два шага и назад. Тогда Щеголев — «с того берега» крикнул:
— Ну, Николай Осипович, идите смелей! Стыдно так трусить!
С тех пор они и помирились. Но Лернер все же вернулся назад и пошел ве́рхом, по мосту.
— Ну, Николай Осипович, идите смелей! Стыдно так трусить!
С тех пор они и помирились. Но Лернер все же вернулся назад и пошел ве́рхом, по мосту.
Корней Чуковский
Из дневника Корнея Чуковского – 24 февраля 1921 г «Собрание сочинений: В 15 т. Т. 11: Дневник 1901 – 1921» (изд. «Агенство ФТМ» - 2013 г.)
14 ФЕВРАЛЯ 1921 Г.
Второй вечер
Говорили: Блок, я и Эйхенбаум (уныло). Кузмин прочитал стихи. Я ждал, что меня побьют, ибо предсказывал охлаждение к Пушкину и корил «отзывчивую молодежь» тем, что она Пушкина не знает. Однако каждый из присутствующих очень тонко решил сделать вид, что к нему это не относится, а относится к соседу – и мне щедро рукоплескали.
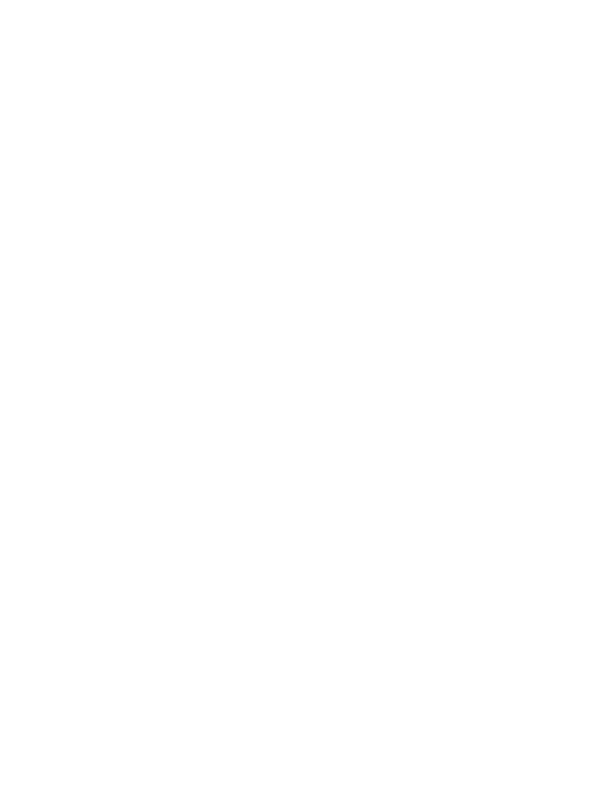
Владислав Ходасевич
Из письма В.Ф. Ходасевича – В.Г. Лидину – 28 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №14» (изд. «Феникс» - 1993 г.) стр. 422 – 423
Вечером в Доме Литераторов на пушкинском вечере, где выступили с речами Блок и Ходасевич. Блок повторил ту свою речь, с которой он выступил на торжественном заседании. Речь Ходасевича кончилась неожиданным для него триумфом: все ему неистово хлопали. Я ее прочитала: она лирическая и вызывает лирическое потрясение. Она вся построена на личной нежности к Пушкину и исторической субъективизации общественных настроений с точки зрения "нас" (группы немногих, лично и интимно воспринимающих Пушкина); говорю "нас", но это "мы" у Ходасевича почти что "я", эготическое общение с Пушкиным. Именно потому, что речь покоилась на несомненном внутреннем опыте, а, может, и потому, что была антиобщественна, она зажгла консервативную питерскую аудиторию.
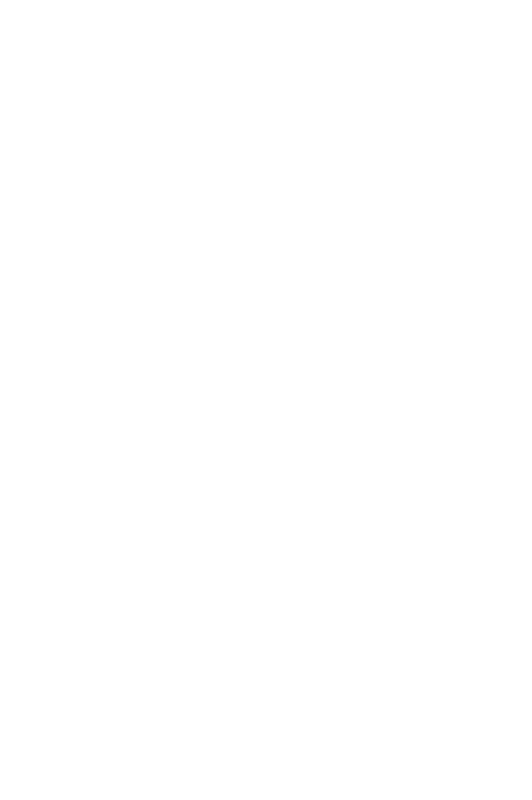
Мариэтта Шагинян
«Человек и время» (изд. «Художественная литература» – 1980г.) стр. 646
Была я на повторении Пушкинского торжества. Происходило это на Бассейной, в Доме Литераторов. За Сашей прислали лошадь, санки, и он взял меня с собой туда и назад. Но впечатление у меня осталось тяжелое. Торжества не вышло. Сашина речь хороша. И недурная - Ходасевича. Но Эйхенбаум наплел вздора и, по-моему, развенчал Пушкина. Уж одно то, что речь свою он заключил тем, что Пушкин был склонен к пародии - "Барышня-крестьянка" - пародия на "Ромео и Джульетту", "Граф Нулин" - на легкий жанр. Я очень злилась...
Закрытое первое заседание (по словам Саши) было торжественнее. И Сашина речь там имела огромный успех. Здесь же публика ужасная, и густая атмосфера кадетства. Знаешь, для меня это оказывается самое тоскливое, самое мучительное явление - кадетство. Всякая атмосфера для меня легче. Этот паралич, это отсутствие религиозных восприятий - убийственно по существу. Я томлюсь, бьюсь, как рыба без воды.
Закрытое первое заседание (по словам Саши) было торжественнее. И Сашина речь там имела огромный успех. Здесь же публика ужасная, и густая атмосфера кадетства. Знаешь, для меня это оказывается самое тоскливое, самое мучительное явление - кадетство. Всякая атмосфера для меня легче. Этот паралич, это отсутствие религиозных восприятий - убийственно по существу. Я томлюсь, бьюсь, как рыба без воды.
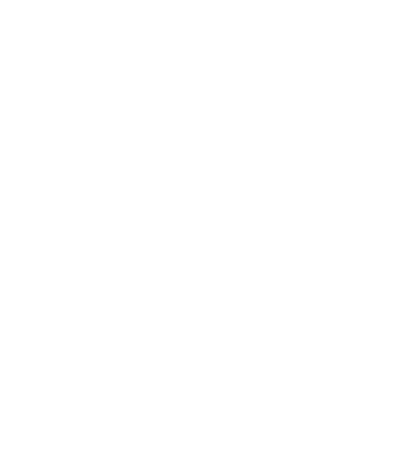
Александра Кублицкая-Пиоттух (мать Блока)
Из письма А.А. Кублицкой-Пиоттух [мать Блока] – М. А. Бекетовой – 16 февраля 1921 г «Ал. Блок и его мать. Воспоминания и заметки» (изд. «Петроград» – 1925 г.) стр. 161
26 ФЕВРАЛЯ 1921 Г.
Третий вечер
26-го повторяли вечер в Университете, завтра - опять в «Д[оме] Л[итераторов]». Мне это наскучило, хоть я и заработал около ста тысяч.
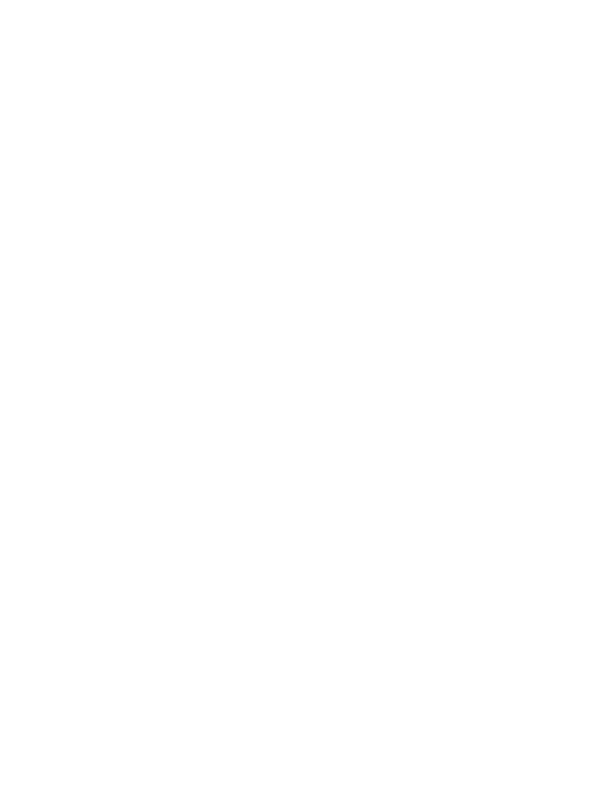
Владислав Ходасевич
Из письма В.Ф. Ходасевича – В.Г. Лидину – 28 февраля 1921 г «Минувшее: Исторический альманах №14» (изд. «Феникс» - 1993 г.) стр. 423
Вечер был повторен три раза. Я, наконец, написал свою речь ("Колеблемый треножник") и читал ее. "За кулисами", в ожидании своей очереди, мы с Блоком беседовали. В сущности, только в те вечера мы с ним и говорили более или менее наедине. В последний раз (это было в здании Университета), так вышло, что в какой-то пустынной комнате, за холодным клеенчатым столом, просидели мы часа полтора. Начали с Пушкина, перешли к раннему символизму. О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и С. М. Соловьеве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: "3абыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи, как чужие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор".
В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда - либо. Говорил много о себе, как - будто с самим собою, смотря вглубь себя, очень сдержанно, порою - полунамеками, смутно, спутано, но за его словами ощущалась суровая, терпковая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.
В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда - либо. Говорил много о себе, как - будто с самим собою, смотря вглубь себя, очень сдержанно, порою - полунамеками, смутно, спутано, но за его словами ощущалась суровая, терпковая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.
Владислав Ходасевич
«Некрополь»
ПОСЛЕ ВЕЧЕРОВ
<…> Как мне было приятно Ваше письмо! И, знаете, Вы писали его в день смерти Пушкина – 29 января по ст<арому> стилю! В этот день за Сашей прислали санки и лошадь из Дома Литераторов, где с нынешнего года положено справлять ежегодные поминки в этот день, и Саша поехал прочесть там свою речь о Пушкине. А в понедельник было повторение для публики, и Саша взял меня с собой опять-таки на санях, конечно. Не скажу, чтобы хорошее было торжество <…> но Сашина речь хороша <…>.
Саша написал и стихи о Пушкине для Альбома Пушкинского Дома в Академии наук. Стихи мне нравятся.
Саша написал и стихи о Пушкине для Альбома Пушкинского Дома в Академии наук. Стихи мне нравятся.
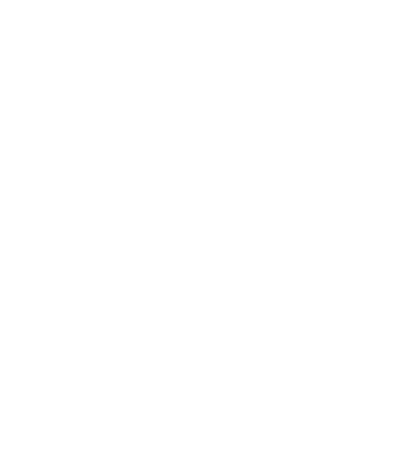
Александра Кублицкая-Пиоттух (мать Блока)
Из письма А.А. Кублицкой-Пиоттух [мать Блока] – М. П. Ивановой – 16 февраля 1921 г «Литературное наследство – Том 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3» (изд. «Наука» 1982г.) стр. 519
Никак не ожидала, чтобы Блок так быстро исполнил мою просьбу о стихах в альбом. Оказывается, в тот самый вечер, когда я с ним говорила по телефону, он написал специальные для моего альбома стихи, посвященные Пушк<инскому> Дому! Какой милый. Мы условились, что я зайду с альбомом, но до вчерашнего дня я, по обыкновению, не выбралась, а вчера узнала, что стихи давно написаны и ждали меня.
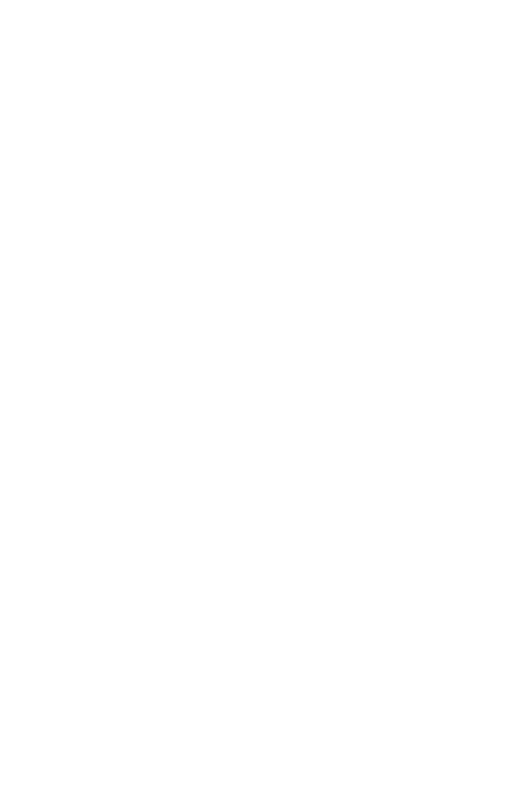
Евлалия Казанович
Из дневника Е.П. Казанович – 20 марта 1921 г. Журнал «Литературное обозрение №10» 1980 г.
Как-то, придя к нему [Блоку] через несколько дней после того, как он произнес в Доме литераторов свое незабвенное слово о Пушкине, я узнал от его матери Александры Андреевны, что "Сашенька", кроме того, написал о Пушкине стихи.
Александра Андреевна ликовала: он давно уже не писал ни одной стихотворной строки, и вот, как ей показалось, поэтическое вдохновение снова - и надолго - вернулось к нему.
Но Александр Александрович был сумрачен.
- Да, написал... Кто-то позвонил по телефону и попросил написать в альбом Пушкинского дома стихотворение о Пушкине. Я написал, но, кажется, вышло плохо. Отвык, не писал уже несколько лет.
И Блок прочитал мне такие стихи:
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это - звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке,
Это - древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.
Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.
Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.
Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук -
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук.
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
29 января (11 февраля) 1921 года
Если не считать черновых набросков к поэме «Возмездие», это были последние стихи Блока. В них тогда же поразила меня строка: «Уходя в ночную тьму».
Он действительно «уходил в ночную тьму» и, перед тем как уйти, отдал последний прощальный поклон - Пушкину.
Александра Андреевна ликовала: он давно уже не писал ни одной стихотворной строки, и вот, как ей показалось, поэтическое вдохновение снова - и надолго - вернулось к нему.
Но Александр Александрович был сумрачен.
- Да, написал... Кто-то позвонил по телефону и попросил написать в альбом Пушкинского дома стихотворение о Пушкине. Я написал, но, кажется, вышло плохо. Отвык, не писал уже несколько лет.
И Блок прочитал мне такие стихи:
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это - звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке,
Это - древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.
Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.
Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.
Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук -
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук.
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
29 января (11 февраля) 1921 года
Если не считать черновых набросков к поэме «Возмездие», это были последние стихи Блока. В них тогда же поразила меня строка: «Уходя в ночную тьму».
Он действительно «уходил в ночную тьму» и, перед тем как уйти, отдал последний прощальный поклон - Пушкину.
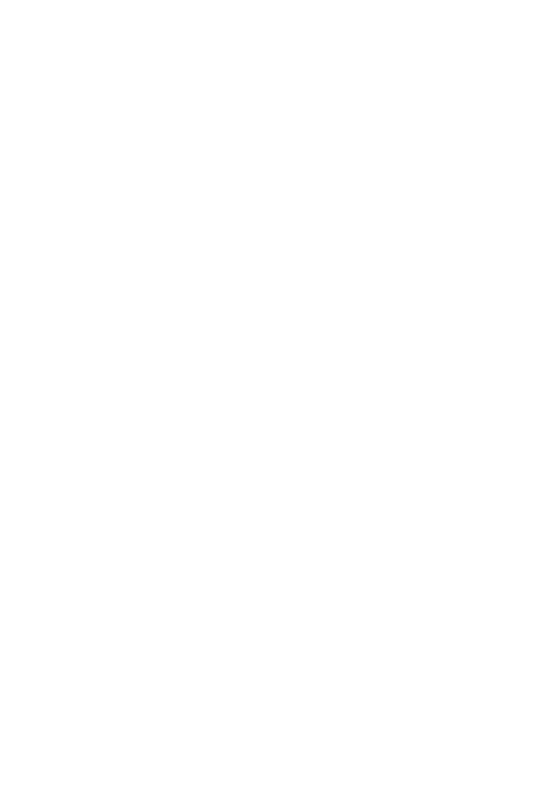
Корней Чуковский
«Чукоккала»
Через неделю, сидя в столовой с Лозинским и мною за неизменным дежурным блюдом «заячьи котлеты», приготовленным неизвестно из чего, но только не из зайца, Гумилев восхищался стихами Блока «Имя Пушкинского Дома».
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не простой для сердца звук...
Он их, к удивлению Лозинского, читал наизусть. Он утверждал, что прекрасные стихи запоминаются сразу и что поэтому-то «Имя Пушкинского Дома» он и запомнил с первого чтения.
Ему особенно нравилась строфа:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе...
– Как просто, по-пушкински ясно и гармонично.
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
Как хорошо и как безнадежно: «Уходя в ночную тьму...» Знаешь, Михаил Леонидович, Блок действительно уходит «в ночную тьму». Он становится все молчаливее, все мрачнее. Он сегодня спросил меня: «Вам действительно так нравится мой „Пушкинский Дом"? Я рад, что мне удалось. Ведь я давно уже не пишу стихов. Но чем дольше я живу, чем ближе к смерти, тем больше я люблю Пушкина. – И, помолчав, добавил: – Мне кажется, иначе и быть не может. Только перед смертью можно до конца понять и оценить Пушкина. Чтобы умереть с Пушкиным».
Гумилев недоуменно развел руками:
– Мы с Блоком во всем различны. Мне, наоборот, кажется, что Пушкина поэт лучше всего принимает «на полдороге странствия земного», в полном расцвете жизненных сил и таланта, – как мы с тобой сейчас, Михаил Леонидович.
Он улыбнулся, и его косящие глаза весело заблестели:
– Я никогда еще не любил Пушкина так, как сейчас. Не умирать с Пушкиным. А жить с ним надо.
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не простой для сердца звук...
Он их, к удивлению Лозинского, читал наизусть. Он утверждал, что прекрасные стихи запоминаются сразу и что поэтому-то «Имя Пушкинского Дома» он и запомнил с первого чтения.
Ему особенно нравилась строфа:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе...
– Как просто, по-пушкински ясно и гармонично.
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
Как хорошо и как безнадежно: «Уходя в ночную тьму...» Знаешь, Михаил Леонидович, Блок действительно уходит «в ночную тьму». Он становится все молчаливее, все мрачнее. Он сегодня спросил меня: «Вам действительно так нравится мой „Пушкинский Дом"? Я рад, что мне удалось. Ведь я давно уже не пишу стихов. Но чем дольше я живу, чем ближе к смерти, тем больше я люблю Пушкина. – И, помолчав, добавил: – Мне кажется, иначе и быть не может. Только перед смертью можно до конца понять и оценить Пушкина. Чтобы умереть с Пушкиным».
Гумилев недоуменно развел руками:
– Мы с Блоком во всем различны. Мне, наоборот, кажется, что Пушкина поэт лучше всего принимает «на полдороге странствия земного», в полном расцвете жизненных сил и таланта, – как мы с тобой сейчас, Михаил Леонидович.
Он улыбнулся, и его косящие глаза весело заблестели:
– Я никогда еще не любил Пушкина так, как сейчас. Не умирать с Пушкиным. А жить с ним надо.
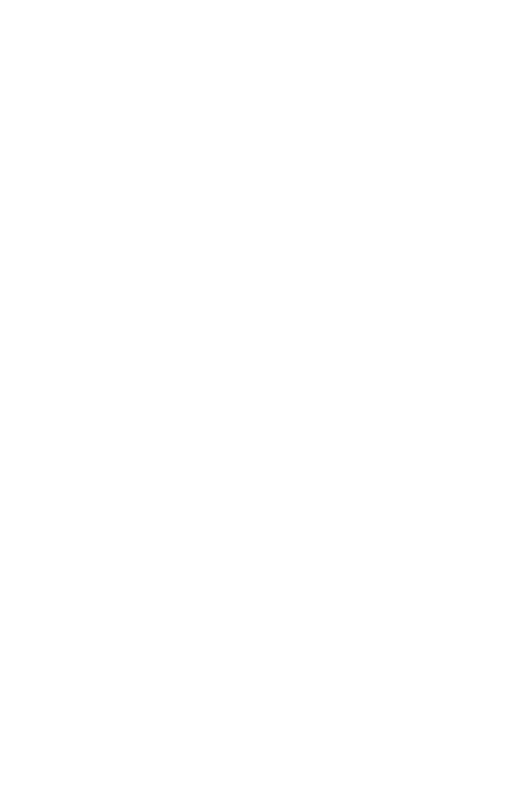
Ирина Одоевцева
«На берегах Невы» (изд. «Художественная литература» – 1989 г.) стр. 207 – 208


